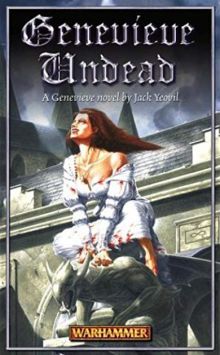Женевьева неумершая / Genevieve Undead (роман)
 | Сторонний перевод Этот перевод был выполнен за пределами Гильдии. |
Гильдия Переводчиков Warhammer Женевьева неумершая / Genevieve Undead (роман) | |
|---|---|
| Автор | Джек Йовил / Jack Yeovil |
| Переводчик | Елена Ластовцева |
| Издательство | GW Books
Black Library Азбука |
| Серия книг | Женевьева Дьедонне |
| Входит в сборник | Женевьева. Жажда крови / The Vampire Genevieve (сборник) |
| Предыдущая книга | Дракенфелс / Drachenfels (роман) |
| Следующая книга | Твари в бархатных одеждах / Beasts in Velvet (роман) |
| Год издания | 1993 |
| Подписаться на обновления | Telegram-канал |
| Обсудить | Telegram-чат |
| Скачать | EPUB, FB2, MOBI |
| Поддержать проект
| |
Когда он утратил свою любовь.
Печаль его была велика.
Он всем сердцем желал обо всем забыть
И затеряться в глухих лесах,
Но не мог не ответить на зов страны.
Том Блекбурн и Джордж Брунс, Баллада о Дэви Крокете
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КРОВАВАЯ СЦЕНА
1
Когда-то у него было имя, но он не слышал его уже много лет. Порой ему трудно было вспомнить, как оно звучало. Даже он сам думал о себе как о Демоне Потайных Ходов. Когда в труппе Театра Варгра Бреугеля осмеливались говорить о нем, то называли его «наше привидение».
Он обосновался в этом здании достаточно давно, чтобы узнать в нем все кратчайшие пути. Откинув защелку потайного люка, он спускался в 7-ю ложу, сначала повиснув на сильных щупальцах, потом, на последних дюймах, шлепаясь на знакомый ковер. Сегодня вечером ожидалась премьера «Странной истории доктора Зикхилла и мистера Хайды», изначально написанная кислевским драматургом В. И. Тиодоровым, а теперь адаптированная штатным гением Театра Варгра Бреугеля Детлефом Зирком.
Демон Потайных Ходов знал древнюю мелодраму Тиодорова по более ранним переводам, и теперь ему было любопытно, как Детлефу удастся вдохнуть в нее новую жизнь. Он интересовался репетициями, особенно с участием своей протеже, Евы Савиньен, но сознательно воздерживался до этого вечера от просмотра всей пьесы. Когда после пятого действия опустится занавес, тогда призрак и решит, благословлять пьесу или проклинать.
Его считали постоянным и бесплатным посетителем 7-й ложи и ссылались на него всякий раз, хорошо ли шла постановка или плохо. Успех «Туманного фарса» приписывали тому, что он одобрил комедию, и в серии пагубных инцидентов, что преследовали так в итоге и не возобновленный «Странный цветок» Манфреда фон Диеля, обвиняли тоже его. Некоторые мельком видели его, и очень многие считали, что видели. Театр без привидения не театр. И всегда находились старые рабочие сцены и характерные актеры, обожающие пугать историями о нем молоденьких статисток и учеников, проходивших через Театр памяти Варгра Бреугеля.
Даже Детлеф Зирк, актер и режиссер труппы Варгра Бреугеля, порой говорил о нем с симпатией и продолжал традицию, начатую предыдущими режиссерами, оставляя ему подношения в 7-й ложе на премьере каждой постановки.
Вообще-то с тех пор, как Детлеф вступил во владение этим зданием, дела у привидения пошли куда лучше. Когда театр принадлежал Возлюбленным Шаллии и специализировался на не слишком доходных, но поднимающих дух драмах, подношения состояли из ладана и живого козленка. Теперь, отражая более приземленный, более разумный подход, дары приняли вид большого подноса с мясом и овощами от искусного повара труппы, да еще с парой бутылок бретонского вина.
Демон Потайных Ходов удивлялся, неужели Детлеф инстинктивно почувствовал, что по потребностям он стоит ближе к телесным существам, чем к бесплотным духам.
Есть без рук было трудно, но за годы он приспособился к своему жабо из мышечных выростов и мог отправлять кусочки пищи с подноса в клювастый всасывающий рот даже с относительной ловкостью. Резко сократив мышцы, он откупорил первую бутылку и принялся жадно глотать прекрасное выдержанное вино из урожая, собранного, должно быть, примерно в год его рождения. Он отогнал эту мысль – его прежняя жизнь казалась теперь менее реальной, чем тот вымысел, что разворачивался перед ним каждый вечер – и поудобнее умостил свою бесформенную тушу среди сломанных кресел и подушек, приспособленных под его формы, ожидая, когда поднимется занавес. Он ощущал волнение публики, пришедшей на премьеру, и из темноты 7-й ложи видел блеск драгоценностей и шелков внизу. Премьера Детлефа Зирка послужила для альтдорфской знати поводом выйти в свет при полном параде.
Демон Потайных Ходов слышал, что самого Императора не будет – после печального опыта в крепости Дракенфелс Карл-Франц невзлюбил театр вообще и театр Детлефа Зирка в частности, – но императорскую ложу займет принц Люйтпольд. Театр посетят многие из благороднейших и важнейших людей Империи, столь же сильно желая продемонстрировать себя, как и увидеть пьесу. Критики собрались в своем углу, щетинясь перьями, с чернильницами наготове. Богатые торговцы набились в партер, почтительно взирая на множество придворных и аристократов, оккупировавших бельэтаж, которые, в свою очередь, точно так же смотрели на приближенных Императора в абонированных ложах.
Оркестр приветствовали громом аплодисментов, когда музыканты дирижера Феликса Хуберманна заиграли государственный гимн Империи, «Славься, Дом Вильгельма Второго». Привидение устояло перед искушением зашлепать своими отростками, изображая некое подобие аплодисментов. В императорской ложе появился будущий Император, благосклонно принимая восторги своих будущих подданных. Принц Люйтпольд был красивым мальчиком на грани превращения в красивого юношу. Его сегодняшняя спутница тоже была очаровательна, хотя, как стало известно Демону Потайных Ходов, и немолода. Женевьева Дьедонне, одетая куда более просто, нежели закутанный в парчу и кружева Люйтпольд, выглядела шестнадцатилетней девушкой, но все знали, что возлюбленной Детлефа Зирка на самом деле пошел шестьсот шестьдесят восьмой год.
Героиня Империи, она же причина ее некоторой неловкости, казалось, чувствовала себя в высочайшем присутствии не слишком комфортно и старалась держаться в тени, покуда принц махал толпе рукой. Призрак заметил, как остро вспыхнули красным светом ее глаза, и задумался, способно ли ее ночное зрение пронзить тьму, которая сочилась из его пор, подобно чернилам осьминога.
Если девушка-вампир и увидела его, она ничем этого не выдала. Наверно, она слишком нервничала из-за своего собственного положения, чтобы обращать на него внимание. Героиня она или нет, а положение вампира в человеческом обществе всегда шатко. Слишком многие помнят, как Кислев веками страдал под властью царицы Каттарины.
Свиту принца составляли также Морнан Тибальт, унылый и бесцветный начальник имперской канцелярии, выдвинувшийся благодаря собственным талантам, и граф Рудигер фон Унхеймлих, жестокий и влиятельный патрон Лиги Карла-Франца, готовый до последнего вздоха защищать привилегии аристократии. Известно было, что они ненавидят друг друга лютой ненавистью; выскочка Тибальт имел наглость полагать, что способности и ум – более важные для высших чиновников качества, чем хорошие манеры, происхождение и титул, в то время как благородный охотник фон Унхеймлих утверждал, будто все, что получила Империя от начинаний Тибальта, – это бунты и потрясения в обществе. Демону Потайных Ходов подумалось, что и канцлер, и граф отнесутся к спектаклю не слишком-то внимательно, злясь на то, что долг служения Империи не позволяет им сегодня же вечером броситься врукопашную.
Публика успокоилась, и принц уселся в свое кресло, Пора начинать. Призрак устроился поудобнее и сосредоточил внимание на поднимающемся занавесе. За красным бархатом была темнота. Хуберманн поднес к губам флейту и заиграл странную пронзительную мелодию. Потом вспыхнули огни рампы, и публика перенеслась в другой век, в другую страну.
Действие «Доктора Зикхилла и мистера Хайды» происходило в Кислеве во времена до правления Каттарины, и речь шла о скромном жреце Шаллии, который под воздействием магического напитка превращался в совершенно другого человека, воплощение зла. В первой сцене Зикхилл спорил о добре и зле со своим братом-философом, а в то время вокруг храма сгущалась тьма, просачиваясь внутрь между величественных колонн.
Несложно было понять, что привлекло Детлефа Зирка, постановщика и актера, в произведении Тиодорова. Двойная роль превосходила все, что актер делал прежде. А сама пьеса явилась очевидным развитием темы ужасных наклонностей, которая последнее время прослеживалась в творчестве драматурга. Даже в комедии «Туманный фарс» нашлось место для вспарывающего глотки демона и долгих разговоров о лицемерии предположительно хороших людей. Критики видели причины этих мрачных навязчивых идей Детлефа в знаменитой прерванной премьере его постановки «Дракенфелс», во время которой актер лицом к лицу встретился не со сценическим монстром, но с самим Великим Чародеем, Вечным Дракенфелсом, и победил его. Детлеф попытался решить эту проблему в «Предательстве Освальда», где исполнил роль одержимого Ласло Лёвенштейна, и теперь возвращался к болезненным для него темам двойственности, предательства и существования ужасного мира, скрывающегося под обыденностью.
Когда брат ушел, Зикхилл заперся в часовне, хлопоча над кипящими жидкостями, из которых он составлял свое зелье. Детлеф, явно не торопя события, играл сцену в комическом ключе, словно Зикхилл был не слишком уверен в том, что делает. Судя по последним работам Детлефа, его понимание зла изменилось, он, похоже, пришел к убеждению, что это не что-то привнесенное извне, вроде Дракенфелса, узурпировавшего тело Лёвенштейна, но некая червоточина внутри, подобно предательству, вызревшему в сердце Освальда, или жестокому, развратному, злому Хайде, стремящемуся вырваться на волю из благочестивого, набожного, доброго Зикхилла.
На сцене зелье было готово. Детлеф-Зикхилл выпил его, и жуткая мелодия Хуберманна зазвучала вновь, иллюстрируя воздействие магии. «Доктор Зикхилл и мистер Хайда» заставляли Демона Потайных Ходов думать о вещах, которые он предпочел бы забыть. Когда впервые появился Хайда, – Детлеф показал чудеса сценической магии и гримасничанья, изображая жестокое превращение, – он вспомнил свой прежний облик и порожденные Тзинчем изменения, которые медленно овладели им. В миг, когда Детлеф-Хайда душил брата Зикхилла, монстра втянуло обратно внутрь клирика, и разоблаченный Зикхилл, смирный и трясущийся, стоял перед философом, призрак потрясенно понял, что с ним такого не случится никогда. Зикхилл и Хайда могли вечно бороться друг с другом и никогда не добиться полной победы, но он был навсегда, к добру или к худу, Демоном Потайных Ходов. Ему никогда не вернуться к себе прежнему.
Потом драма снова захватила его, и он выкарабкался из своих мыслей, покоренный тем, как Детлеф пересказал эту историю. У Тиодорова две стороны главного героя отражались через двух связанных с ним женщин: Зикхилл с его добродетельной женой и Хайда с бесстыдной уличной потаскушкой. Детлеф отказался от этого избитого клише и заменил картонные фигуры человеческими существами.
Соня Зикхилл, которую играла Иллона Хорвата, превратилась в беспокойную, страстную женщину, которой было достаточно скучно с супругом, чтобы завести любовника, молодого казака, и которую помимо воли влекло к испорченному и опасному мистеру Хайде. В то время как Нита, проститутка, в исполнении Евы Савиньен казалась заброшенным ребенком, готовым терпеть гpyбое обращение Хайды, потому что монстр, по крайней мере, уделяет ей хоть какое-то внимание.
Сцена убийства заставила публику ахнуть, и призрак не сомневался, что Детлеф, дабы подхлестнуть спрос на билеты, распустит слух, будто леди падали в обморок дюжинами. Возможно, Хайда Детлефа и был на сцене триумфатором, самым ужасающим воплощением чистого зла, какое призрак видел, но открытием спектакля, без сомнения, стала трагическая Нита Евы Савиньен.
В «Туманном фарсе» Ева получила и преобразила скучнейшую из ролей – верной служанки, и это стало ее первым шансом выдвинуться на одну из главных ролей. Блестящая игра Евы заставила грудь призрака раздуться от гордости, поскольку она в настоящее время вызывала у него особый интерес.
Заметив девушку, когда она только пришла в труппу, он использовал свое влияние, чтобы помогать ей. Триумф Евы был и его триумфом тоже. Ее Нита на самом деле затмила героиню Иллоны Хорвата, стоящую в афишах выше, и Демон Потайных Ходов гадал, не вложил ли Детлеф в эту роль, когда писал пьесу, кое-что от Женевьевы Дьедонне.
Действие происходило в гнусном притоне за храмом Шаллии, где Хайда устроил свое логово. Хайда пытается избавиться от Ниты, он назначил здесь свидание Соне, рассчитывая, что совращение жены, которую муж все еще считает добродетельной, будет означать окончательную победу над той частью его души, которая принадлежит Зикхиллу. Повод для убийства был наиничтожнейший – пара башмаков, без которых Нита отказалась выходить на заснеженные улицы Кислева. Мало-помалу протестующая Нита все больше воспламенялась и впервые попыталась дать отпор своему жестокому покровителю. Наконец, как бы в раздумье, Хайда с такой силой ударяет девушку латной перчаткой, что кровь брызжет из ее черепа, как сок из раздавленного апельсина.
Льется бутафорская кровь.
И тут наступает кульминация, когда молодой кислевский казак, которого играет атлетичный и динамичный Рейнхард Жесснер, выследив Хайду после его прежних преступлений, врывается в жилище злодея в сопровождении жены и брата Зикхилла и уничтожает монстра в поединке. Демон Потайных Ходов видел дуэли Детлефа и Рейнхарда и прежде, в финале «Предательства Освальда», но теперь это стало куда более впечатляющим зрелищем. Поединок настолько отличался от сценического номера, что, демон не сомневался, между ними должна была существовать какая-то настоящая вражда. В реальной жизни Рейнхард был женат на Иллоне Хорвата, с которой Детлеф занимался любовью в трех последних постановках труппы. Кроме того, Рейнхарда начали называть главным дамским кумиром театра. Его популярность среди молодых женщин Альтдорфа все росла, в то время как у его гениального хозяина – слегка уменьшалась, хотя и не настолько, как могла бы, учитывая то, что сделали с животом Детлефа годы привычки к хорошей пище и лучшим винам.
Детлеф и Рейнхард дрались в образах Хайды и казака, они рубились до тех пор, пока лица их не покрылись кровавыми царапинами, а декорации не превратились в руины. Удар мечом по занавеси, и глазам персонажей предстало наскоро спрятанное с глаз тело Ниты, и Соня Зикхилл без чувств упала на руки своего деверя. Зрители затаили дыхание. В оригинале Тиодорова Хайда был побежден, когда Зикхилл, наконец, сумел собраться с силами и злодей выронил меч. Пронзенный мечом казака, Хайда перед смертью вновь превращался в Зикхилла и в предсмертной речи объявлял, что получил хороший урок и смертные не должны вмешиваться в дела богов. Детлеф переделал концовку полностью. В тот самый миг, когда началось превращение, казак нанес смертельный удар, и Хайда отразил его, ударил своей смертоносной перчаткой и перебил молодому герою горло.
В зале были потрясены тем, что их ожидания оказались обманутыми. Именно Зикхилл, не Хайда, убил любовника своей жены. Это была история не о разделении души человека на добрую и злую половины, а о зле, которое способно вытеснить даже добро. Призрак осознал, что на протяжении всего третьего действия Детлеф стирал различия между Зикхиллом и Хайдой. Теперь, в конце, они были неотличимы. Зелье уже не требовалось. Сурово прощаясь, Зикхилл отдает свой обагренный кровью меч жене, в чьей греховности убедился, и призывает ее вновь предаться сладости порока и убить брата Зикхилла. Соня, которая также не нуждается в зелье, чтобы выпустить на волю сокрытого в ней монстра, выполняет его просьбу. Теперь, когда вокруг валяются трупы, Зикхилл толкает свою жену в постель к Хайде, и занавес падает.
Долгие мгновения зал ошеломленно молчал.
Призраку было интересно, как отреагирует публика. Вглядываясь в темноту, он снова заметил красные огоньки глаз Женевьевы и подумал, какие же чувства скрываются за ними. «Доктора Зикхилла и мистера Хайду» едва ли возможно полюбить, но это, несомненно, был мрачный шедевр Детлефа. Никто из видевших никогда его не забудет, как бы ни хотел.
Вспыхнули аплодисменты и переросли в шквал оваций. Демон Потайных Ходов присоединил свои хлопки к остальным.
2
На будущего Императора спектакль произвел впечатление. Женевьева знала, что Детлефа это порадует. Кругом только и кипели горячие споры о достоинствах и недостатках «Странной истории доктора Зикхилла и мистера Хайды». Морнан Тибальт, остроносый канцлер, негромко выражал крайнее неодобрение, в то время как граф Рудигер явно все представление прозевал и теперь, насупившись, не понимал, из-за чего весь этот шум.
Два критика, казалось, вот-вот подерутся, один провозглашал пьесу бессмертным шедевром, второй протестовал против таких гипербол.
Гуглиэльмо Пентангели, коммерческий директор и бывший сокамерник Детлефа, был счастлив, предсказывая, что кто бы что ни думал насчет «Доктора Зикхилла и мистера Хайды», невозможно будет в следующем году рискнуть появиться в свете, не составив о спектакле мнения. А чтобы составить мнение, нужно купить билет.
Женевьева чувствовала, что за ней, как и весь вечер, пристально наблюдают, но никто не заговаривал с ней о пьесе. Что и следовало ожидать. Она была на особом положении, связана с Детлефом, но все-таки не с его работой. Некоторые могли счесть невежливым высказывать ей свое мнение или интересоваться ее собственным. Так или иначе, она чувствовала себя странно, дистанцируясь от пьесы. Она не вполне могла ни связать ее с тем человеком, с которым делила постель – в тех нечастых случаях, когда пользовалась ею в то же время, что и он, – ни тем более понять те проблески чувств в Детлефе, которые делали его и доктором Зикхиллом, и мистером Хайдой одновременно. В последнее время внутренний мир Детлефа Зирка становился все темнее.
В фойе Театра Варгра Бреугеля приглашенные гости выпивали и подкреплялись у буфета. Феликс дирижировал квартетом, игравшим сюиту из пьесы, а Гуглиэльмо изо всех сил старался быть обходительным с фон Унхеймлихом, который обстоятельно описывал фехтовальные ошибки кислевита в исполнении Рейнхарда. Придворный, которого Женевьева встречала раньше – у которого однажды пила кровь в своей комнате при таверне «Полумесяц», – сделал ей комплимент по поводу ее платья, и она в ответ улыбнулась ему, вспомнив его имя, но не точный титул. Даже после семи сотен лет при дворах всего Известного Мира она путалась в вопросах этикета. Актеры все еще были за кулисами, снимая грим и костюмы. Детлеф, должно быть, тоже там, просматривает свои замечания исполнителям.
Для него каждое представление было генеральной репетицией перед идеальным, совершенным спектаклем, который мог бы каким-то волшебным образом, в конце концов, состояться, но которого никогда в действительности не бывало. Он говорил, что, как только перестанет быть неудовлетворенным своей работой, то бросит это занятие, не оттого, что достиг совершенства, а потому, что лишился рассудка.
Едящие и пьющие люди напомнили Женевьеве о ее собственных потребностях. Сегодня ночью, когда окончится вечеринка, она будет с Детлефом. Это станет лучшим способом вместе насладиться его триумфом, слизнуть крохотные корочки со спрятанных под бородой ранок и отведать его крови, еще острой от вызванного спектаклем возбуждения. Она надеялась, что он не злоупотребит выпивкой. Слишком много вина в крови вызывает у нее головную боль.
– Женевьева, – сказал принц Люйтпольд, – ваши зубы…
Она почувствовала, как они остро колют ее нижнюю губу, и наклонила голову. Эмаль на зубах съежилась, и клыки скользнули назад в десны.
– Простите, – произнесла она.
– Ну, что вы, – едва не рассмеялся принц. – Это же не ваша вина, это ваша природа.
Женевьева заметила, что Морнан Тибальт, не любивший ее, внимательно следит за ней, словно ждет, что она сейчас порвет горло наследнику короны и окунет лицо в бьющую фонтаном королевскую кровь. Она пробовала королевскую кровь, и та ничем не отличалась от крови пастуха коз. Со времени падения архиликтора Микаэля Хассельштейна Морнан Тибальт был ближайшим советником Императора и ревностно относился к своему положению, опасаясь каждого – не важно, насколько незначителен был человек или маловероятен его успех, – кто мог бы снискать благосклонность Дома Вильгельма Второго.
Женевьева понимала, что амбициозного канцлера не слишком-то любят, особенно те, чьим героем был граф Рудигер: старая гвардия аристократии, выборщики и бароны. Женевьева принимала людей такими, какие они есть, но она была достаточно хорошо знакома с Великими и Достойными, чтобы не желать принимать чью-либо сторону в любых столкновениях фракций при дворе Карла-Франца I.
– А вот и наш гений! – воскликнул принц.
Детлеф вышел, как на сцену, преобразившись из оборванного монстра из пьесы в любезного денди, одетого с таким великолепием, насколько хватило фантазии у театрального костюмера. Расшитый камзол самым выгодным образом скрадывал его животик. Он низко поклонился принцу и поцеловал кольцо на руке мальчика.
Люйтпольд был достаточно хорошо воспитан, чтобы смутиться, а Тибальт смотрел так, словно ожидал очередной попытки убийства. Разумеется, Детлефу и Женевьеве дозволялась такая близость к императорской особе как раз по той причине, что в замке Дракенфелс они помешали именно такой попытке. Если бы не эти комедиант и кровопийца, Империей правила бы сейчас марионетка Великого Чародея, и для всех народов мира настало бы новое Темное Время.
Скорее всего, куда более темное.
Принц похвалил Детлефа за спектакль, и актер-драматург отверг похвалы с непомерной скромностью. Он одновременно казался смущенным и в то же время показывал, как рад, что заслужил высочайшее одобрение своего покровителя.
Подходили другие актеры. Рейнхарда, с повязкой на голове, куда Детлеф во время финального поединка нанес слишком сильный удар, с боков прикрывали его жена Иллона и инженю. Вокруг Евы увивались несколько ухажеров из околотеатральной публики, и Женевьева заметила у Иллоны легкий оттенок ревности. Сам принц Люйтпольд поинтересовался, нельзя ли представить ему молодую актрису. За этой Евой Савиньен нужен будет глаз да глаз.
– Святой Ульрик, вот это был спектакль, – заявил Рейнхард, искренний как обычно, потирая рану. – Демон Потайных Ходов должен быть доволен.
Женевьева рассмеялась его шутке. Демон Потайных Ходов был популярным в Театре Варгра Бреугеля суеверием.
Детлефу подали вина, и вокруг него тоже собралась свита.
– Жени, любовь моя, – он поцеловал ее в щеку, – ты чудесно выглядишь.
Она чуть вздрогнула в его объятиях, его теплота не убедила ее. Он всегда играет роль. Такова его природа.
– Это был просто праздник ужасов, Детлеф, – сказал принц. – Я никогда в жизни так не боялся. Ну, может быть, однажды…
Детлеф, на миг посерьезнев, принял его слова.
Женевьева снова подавила дрожь и почувствовала, что все остальные тоже содрогнулись. Она увидела мгновенно помрачневшие лица среди веселой компании. Детлеф, Люйтпольд, Рейнхард, Иллона, Феликс.
Те, кто присутствовал на представлении в замке Дракенфелс, всегда будут стоять особняком от остального мира. Оно изменило их всех. И Детлефа больше других. Все они чувствовали незримые глаза, следящие за ними.
– У нас в Альтдорфе и без того хватает ужасов, – заявил Тибальт, поглаживая корявой рукой подбородок. – Эта история с Дракенфелсом пять лет назад. Милая стычка героического Конрада с нашими зеленокожими приятелями. Тварь-убийца. Бунты, которые разжигает революционер Клозовски. Теперь эта история с Боевым Ястребом…
Несколько горожан были недавно убиты сокольничим, который спускал на них ловчую птицу. Капитан Харальд Кляйндест, заслуженно считающийся самым упорным полицейским в городе, поклялся предать убийцу правосудию, но тот до сих пор все еще оставался на свободе, убивая всех, кого ему заблагорассудится.
– Такое впечатление, – продолжал канцлер, – что мы по колено в крови и жестокости. Почему вы сочли необходимым добавить еще кошмаров к этому бремени?
Детлеф минуту помолчал. Тибальт задал ему вопрос, над которым многие, должно быть, размышляли в течение всего вечера. Женевьеве не нравился этот человек, но она признавала, что на этот раз он, возможно, говорит дело.
– Итак, Зирк, – настаивал Тибальт, забывая в пылу спора о вежливости, – зачем так подробно останавливаться на ужасах?
В глазах Детлефа появилось выражение, которое Женевьева уже научилась распознавать. Мрачное выражение, появлявшееся всякий раз, когда он вспоминал крепость Дракенфелс. Взгляд Хайды, изменяющий лицо Зикхилла.
– Канцлер, – произнес он, – а почему вы думаете, что у меня был выбор?
3
На этой вершине в Серых горах некогда стоял замок. Семь его башен высились на фоне неба, будто когтистые пальцы изуродованной ладони. Это была крепость Вечного Дракенфелса, Великого Чародея. Теперь от нее осталась лишь россыпь камней, спускающаяся в долину подобно леднику, растянувшемуся на мили. Внутри сооружения разместили заряды, потом подорвали их. Цитадель Дракенфелса сотрясалась и обрушивалась часть за частью.
Там, где когда-то была крепость, теперь остались одни развалины. Намеревались полностью уничтожить все следы хозяина замка. Камень и шифер разбить вдребезги можно, но те ужасы, что хранятся в людской памяти, не сдуешь, будто мякину.
Все эти пять лет под развалинами оставался погребенным Анимус, разумное существо, не имеющее определенной формы. В данный момент он обитал в маске, в уплощенном овале, похожем на половинку скорлупы большого яйца, выкованном из легкого металла, такого тонкого, что он сделался почти прозрачным. У маски были черты, но нечеткие, неоформленные. Чтобы маска обрела характер, ее нужно носить.
Анимус не знал точно, что он такое. Вечный Дракенфелс то ли изготовил его, то ли создал силой магии. Гомункулус или дух, своим существованием он был обязан Великому Чародею. Дракенфелс носил однажды эту маску, и частица его сохранилась в ней. Это и определило задачу Анимуса.
Он остался в руинах после того, как Дракенфелс покинул этот мир, с единственной целью.
Отомстить.
Женевьева Дьедонне. Детлеф Зирк. Вампирша и комедиант. Те, кто погубил великий замысел. Они уничтожили Дракенфелс и теперь сами должны быть уничтожены.
Анимус был терпелив. Время шло, но он мог подождать. Он не умрет. Он не изменится. Его нельзя отговорить. Нельзя подкупить. Он не отступится от своей цели.
Существо ощущало некий беспорядок среди руин и знало, что это приведет его ближе к Женевьеве и Детлефу.
Анимус не чувствовал волнения, как не чувствовал ненависти, любви, боли, удовольствия, удовлетворения, неудобства. Мир был таким, каким был, и он ничего не мог с этим поделать.
Проходили месяцы, и беспорядок приближался к Анимусу.
Когда они занимались любовью, Женевьева слизывала тоненькие струйки крови из старых ранок у него на горле. На протяжении лет ее зубы оставляли на нем постоянные отметины, клеймо. Детлефу приходилось носить высокие воротники, и на всех его рубашках были крохотные красные пятнышки в местах, где они соприкасались с ее укусами.
Его голова глубоко утонула в подушке, и он глядел в потолок, зрение его то утрачивало резкость, то обретало вновь, пока она сосала его кровь. Рука его покоилась у нее на шее, под завесой белокурых волос. Они лежали чресла к чреслам, шея ко рту. Они были одним телом, одной кровью.
Он попытался описать свой опыт в словах, в одном из сонетов, которые пока что держал в тайне, но так и не сумел точно передать всю трепетность чувств, боль и наслаждение. Его безупречный в большинстве случаев инструмент – язык – подвел его.
Женевьева заставила его позабыть про актрис, которых он, бывало, укладывал в свою постель, и он гадал, отличаются ли для нее их отношения от коротких связей с более молодыми людьми. Их партнерство не было обычным и едва ли было удобным. Но даже когда он чувствовал сгущающуюся тьму, эта древняя девочка была тем огоньком свечи, за который он цеплялся. Со времени Дракенфелса они не расставались, делясь друг с другом секретами.
Возбуждение захлестнуло его, и он услышал ее вздох, кровь булькала у нее в горле, острые, как ножи, зубы царапали задубевшую кожу на его шее. Они перекатились, вместе, и она цеплялась за него, когда тела их то разъединялись, то сливались воедино. Кровь была между ними и наслаждение. Он смотрел на ее улыбающееся в сумраке лицо под собой и видел, как она слизывает с губ кровь. Он почувствовал, что возбуждение его достигает кульминации, начиная со ступней, потом…
Сердце его бухало, словно молот. Глаза Женевьевы открылись, и она задрожала, обнажив заходящие друг на друга окровавленные зубы. Он приподнялся над ней, упершись локтями, и обессиленно обмяк, стараясь не наваливаться на нее всем весом. Тела их разъединились, и Женевьева выскользнула из-под него, едва не вскарабкалась на его массивное тело сверху, прижавшись лицом к его щеке, целуя его, накрыв волосами его лицо. Он натянул на них обоих одеяло, и они уютно свернулись в теплом коконе, когда за шторами уже всходило солнце.
На этот раз сон пришел к ним одновременно.
Из-за спектакля, вечеринки и занятий любовью они оба бодрствовали всю ночь напролет. Детлеф был измучен, Женевьева же находилась во власти усталости, охватывающей вампиршу каждые несколько недель.
Глаза его закрылись, и он остался в одиночестве перед потемками своей души.
Он спал, но разум его продолжал трудиться. Ему нужно поупражняться в фехтовании, чтобы избежать несчастных случаев впредь. И надо бы придумать что-нибудь для Иллоны в противовес блестящей игре Евы. И второе действие надо немножко сократить. Комическая вставка с царским министром – просто скучное наследие Тиодорова.
Ему снились меняющиеся лица.
Этой ночью в Серых горах воздух был острым как бритва; вдыхая его, он чувствовал, как тот режет его легкие. Безнадежно пытаясь не сопеть, дабы не нарушать этим привычных правил этикета, Бернаби Шейдт завершал свои утренние моления богам Порядка: Солкану, Арианке и Аллюминасу. Первое, о чем он распорядился на время раскопок, было сооружение солнечных часов. Неподвижная точка в мире, тень, поворачивающаяся в точном соответствии с непоколебимым движением солнца и лун, солнечные часы представляли собой подходящий алтарь для молений ордена.
– Мастер Шейдт, – сказал брат Джасинто, в знак почтения касаясь своего лба, – ночью был обвал. Земля просела там, где мы вчера копали.
– Покажи.
Служитель повел его на место. Шейдт уже привык перепрыгивать через руины, определяя, какие каменные глыбы выглядят достаточно надежными, чтобы наступать на них. Важно было не упасть. Всякий раз, стоило кому-нибудь споткнуться, как двое-трое рабочих ночью сбегали из лагеря. Местные слишком хорошо помнили Дракенфелса и боялись его возвращения. Малейшая неудача приписывалась козням неумершего духа Великого Чародея. Еще несколько таких случаев, и в экспедиции останутся лишь Шейдт и служители, которых выделил ему архиликтор. А служители копали куда хуже, чем местные жители.
Суеверные страхи местных были полным вздором. В начале экспедиции Шейдт вызвал ужасного Солкана и провел обряд изгнания нечистой силы. Если какие-то следы монстра еще сохранялись здесь, то теперь они исчезли, скрылись во Тьме. Порядок правил теперь там, где прежде царил хаос. И все же бывали «случаи».
– Здесь, – указал Джасинто.
Шейдт видел. Полусгнившая деревянная балка покачивалась над квадратной ямой. По углам торчало несколько плит, будто зубы великана. Из дыры тянуло землей, дерьмом, мертвечиной.
– Наверно, это один из погребов.
– Да, – согласился Шейдт.
Рабочие стояли вокруг. Джасинто был единственным из прислужников, поднявшимся этим утром наверх из их сравнительно комфортабельного деревенского жилища. Брат Нахбар и остальные изучали и заносили в каталог предыдущие находки экспедиции. Когда они вернутся в Альтдорфский университет, архиликтор останется доволен тем, насколько успешно прошли эти раскопки. Приобретение знаний, даже знаний о злом и нечестивом, было тем единственным способом, которым культ Солкана устанавливал Порядок на месте Хаоса.
– Мы должны помолиться, – провозгласил Шейдт. – Чтобы гарантированно обеспечить нашу безопасность.
Он услышал подавленные стоны. Эти крестьяне лучше будут копать, чем молиться. А еще лучше пить, чем копать. Они не понимают Порядка, не понимают, насколько важны в этом мире упорядоченность и внешние приличия. Они здесь только потому, что боятся Солкана, специалиста по мести, так же сильно, если не больше, как призраков замка.
Джасинто уже стоял на коленях, и остальные, ворча, последовали его примеру. Шейдт начал читать молитву Солкану: «Освободи меня от плотских желаний, направляй меня на пути Порядка, наставляй меня в приличиях, помоги мне поразить врагов ордена».
С того времени, как он принял веру, Шейдт всегда проявлял стойкость в своих привычках. Безбрачие, вегетарианство, аскетизм, порядок. Даже физические отправления происходили у него по солнечным часам. Он носил грубое одеяние духовного лица. Он не поднимал руки ни на кого, кроме нечестивцев. Он молился в точно определенное время.
Он жил в гармонии с самим собой и с миром, таким, каким он должен быть.
Закончив молитву, Шейдт обследовал дыру в земле.
Архиликтор направил его в Дракенфелс, велев искать предметы, представляющие духовный интерес. Великий Чародей был носителем великого зла, но он обладал не имеющей себе равных библиотекой, богатой коллекцией магических предметов, хранилищем самых тайных знаний.
Лишь через понимание Хаоса культ Солкана мог установить Порядок. Важно было перенести сражение на вражеские территории, ответить на магию очистительным огнем и сокрушить приверженцев отвратительных богов.
Лишь сильнейшие духом могли заслужить право участвовать в этой экспедиции, и Шейдт был горд, что выбор предстоятеля пал на него.
– Там внизу что-то есть, – предупредил Джасинто. – Оно блестит на солнце.
Солнце уже поднялось и светило в пещеру. Его лучи отражались от предмета. Он имел форму лица.
– Достаньте его, – велел Шейдт.
Служитель послушался. Джасинто знал свое место на солнечных часах. Двое рабочих на веревке спустили молодого человека в пещеру, потом вытащили его назад. Он передал предмет, поднятый со дна ямы, Шейдту.
Это была изящная металлическая маска.
– Это что-нибудь важное? – спросил Джасинто.
Шейдт не мог сказать наверняка. Предмет был странно теплым на ощупь, словно хранил тепло солнца. Он был не тяжелый, и на нем не было места для шнурка, чтобы крепить к голове.
Он поднял маску к лицу и ощутил в пальцах покалывание. Он посмотрел через прорези для глаз. Из-под маски лицо служителя казалось перекошенным. Возможно, Джасинто просто глумился над своим хозяином, высунув язык, хлопая руками по ушам, скосив глаза.
В сердце Шейдта полыхнула ярость, едва он прикоснулся маской к коже. Кто-то мгновенно проскочил ему в череп, сросся с его мозгом. Маска приклеилась к его лицу, будто слой грима. Щеки его задергались, и он почувствовал, как движется металл в соответствии с его мимикой.
Теперь он видел настоящего Джасинто, шарахнувшегося от него прочь.
Он все еще был Бернаби Шейдтом, клириком Солкана. Но и кем-то еще тоже. Он был Анимусом.
Его руки отыскали прислужника и оторвали от земли. С новообретенной силой он поднял сопротивляющегося юношу высоко в воздух и швырнул в провал. Джасинто ударился об уцелевшую балку и с глухим звуком свалился, весь переломанный, на невидимый каменный пол.
Рабочие разбегались. Кто вопил, кто молился. Он наслаждался их страхом.
Шейдт, фанатичный последователь Порядка, пытался содрать маску с лица, в ужасе от того беспорядка, который учинил. Но Анимус мгновенно обрел силу и удержал его руки.
Анимус копался в разуме Шейдта, выискивая зерна недовольства в его лишенном свободы сердце, побуждая их прорастать. Шейдту хотелось женщину, жареного поросенка, бочонок вина. Анимус отыскал эти желания в его душе и был готов помочь ему удовлетворить их. А потом он отправится в путь.
В Альтдорф. К вампирше и комедианту.
Пока рабочие, дрожа, убегали вниз по горному склону, Шейдт глубоко вздохнул и захохотал, будто демон. Деревья, торчащие среди камней, склонились под этим хохотом до земли.
4
Детлеф отправился в театр после полудня, оставив спящую Женевьеву в их доме на другой стороне Храмовой улицы. Остальные члены труппы уже собрались и углубились в рецензии. «Альтдорфский болтун», похваляющийся сотенными тиражами, решительно одобрил «Странную историю доктора Зикхилла и мистера Хайды», и значительная часть газет помельче его поддержала. Феликс Хуберманн выискивал фразы, которые стоило вставить в афиши, подчеркивал восторженные славословия, повторяя их при этом вслух себе под нос: «Захватывающий… яркий… заставляющий думать… леденящий кровь… потрясающий до глубины души… будет жить долго…»
Гуглиэльмо отрапортовал, что все билеты распроданы на ближайшие два месяца и почти все – забронированы и на последующие спектакли тоже. Театр Варгра Бреугеля выпустил очередной хит сезона. Среди декораций стоял на четвереньках Поппа Фриц, страж служебного входа, и пытался отскрести кровь с ковра. Детлеф, предчувствуя, что спектакль ждет долгая жизнь, распорядился заготовить целые ведра сценической крови. Когда он, якобы убивая Еву Савиньен, сжал спрятанный в перчатке пузырь, весь зал был потрясен. Он вспомнил ощущения, захлестнувшие его в тот момент, словно уже его собственный мистер Хайда взял над ним верх, заставляя наслаждаться невообразимыми ужасами.
Когда он вошел в репетиционную, актеры и другие члены труппы разразились приветственными аплодисментами. Он раскланялся, принимая похвалы, которые значили для него так много. Потом он прервал всеобщее веселье, вытащив список с «несколькими замечаниями»…
Когда Детлеф закончил и девушка, играющая дочку хозяина постоялого двора, перестала плакать, он был, наконец, готов рассмотреть деловые вопросы, имевшиеся к нему у Гуглиэльмо Пентангели. Он подписал несколько контрактов и бумаг, включая благодарственное письмо Императору за его продолжающееся покровительство Театру Варгра Бреугеля.
– Болит? – спросил Гуглиэльмо.
– Что?
– Твоя шея. Ты ее всю расчесал.
Это стало неосознанной привычкой. Следы укусов не болели, но порой зудели. Время от времени, после того как Женевьева пила его кровь, он чувствовал себя уставшим и выжатым досуха. Но сегодня он был свеж и готов к вечернему представлению.
– Ты знаешь, что канцлер осудил пьесу? В самых сильных выражениях.
– Да, он говорил вчера вечером.
– Это здесь, в «Болтуне», взгляни.
Детлеф быстро просмотрел колонку, набранную крупным шрифтом. Морнан Тибальт клеймил «Доктора Зикхилла и мистера Хайду» как непристойность и призывал запретить спектакль. Несомненно, показанные в пьесе ужасы послужат примером для подражания морально неустойчивым гражданам.
Тибальт упоминал бунтовщиков против податей, Тварей и Боевого Ястреба как логичные результаты того, что театр показывает исключительно грязь и разврат, жестокости и мерзости.
Детлеф насмешливо фыркнул:
– Мне казалось, что эти бунты – логичный результат идиотских налогов, которые выдумал лично Тибальт.
– Он влиятельный человек при дворе.
– Запрет маловероятен, когда на нашей стороне принц Люйтпольд.
– Будь осторожен, Детлеф, – посоветовал Гуглиэльмо. – Не доверяй покровителям, помни…
Он помнил. Детлеф и Гуглиэльмо встретились в долговой тюрьме, после того как тогдашний патрон Детлефа отказался выполнить свои обязательства. После крепости Мундсен все остальное казалось малоубедительным спектаклем. Порой он был уверен, что сейчас занавес опустится и он снова проснется в своей камере, среди вонючих должников, без малейшей надежды на освобождение.
Даже ужасная смерть от руки Дракенфелса была бы предпочтительней такой жизни, капля за каплей утекающей во мраке.
– Выгравируй слова Тибальта на доске и повесь на стене театра вместе со всеми благоприятными отзывами. Ничто не порождает таких очередей, как требование запретить что-либо. Помнишь, какие сборы были в театре, когда ликтор Сигмара попытался отменить спектакль Бруно Малвоизина «Совращение Слаанеши, или Пагубные страсти Диого Бризака»?
Гуглиэльмо рассмеялся.
– Знаешь, Демон Потайных Ходов с нами, – сказал Детлеф. – Я в этом уверен.
– Седьмая ложа была пуста.
– А…
Гуглиэльмо пожал плечами:
– Еда, разумеется, исчезла.
– Как всегда.
Они всегда так шутили. Гуглиэльмо утверждал, что подношения уносят по домам уборщики и что ему должны разрешить продавать билеты в 7-ю ложу. Речь шла всего-то о пяти местах, но они потенциально могли бы стать самыми дорогими во всем театре. Гуглиэльмо, как и все бывшие должники, знал цену кронам и частенько упоминал о том, сколько теряет Театр Варгра Бреугеля на том, что 7-я ложа пустует.
– Еще какие-нибудь знаки призрачного посещения?
– Тот особый запах, Детлеф. И немножко слизи.
– Ха! – довольно воскликнул Детлеф. – Вот видишь.
– Во многих местах странно пахнет, и там немудрено появиться слизи. Хорошая уборка, свежая мебель, и ложа будет как новенькая.
– Гуглиэльмо, наш призрачный покровитель нужен нам.
– Может быть.
Демон Потайных Ходов слышал, как Детлеф и Гуглиэльмо спорили о нем, и ему это нравилось. Он знал, что актер-режиссер лишь делает вид, что верит в его существование. И все же между ними существовало несомненное родство. Когда-то, годы назад, призрак тоже был драматургом. Его тронуло, что Детлеф помнит его произведения. Их помнили не многие.
Со своего места за стеной он мог наблюдать за всем, глядя в глазок, замаскированный среди орнамента на стенах высокого шкафа, который никто никогда не открывал. Глазки были по всему дому, и за каждой стеной имелись проходы. Театр строили во времена, когда правящий Император попеременно то казнил, то миловал актеров, и в здании необходимо было предусмотреть многочисленные пути к бегству. Не сумевшие угодить Императору артисты могли удрать, не привлекая внимания имперских алебардщиков, у которых в ту пору сложилась репутация самых суровых театральных критиков в городе.
Несколько актеров заблудились в туннелях, и призрак нашел их скелеты, все еще в костюмах, в глухих закоулках театральных катакомб.
Сегодня днем официально репетиции не было. Все находились в приподнятом настроении после вчерашней ночи и горели нетерпением повторить представление сегодня вечером. Испытанием на прочность для успешного спектакля является второй показ, Демон Потайных Ходов знал это. Колдовство может сверкнуть однажды и исчезнуть навеки. Актерам, играющим «Странную историю доктора Зикхилла и мистера Хайды», придется и впредь потрудиться, чтобы соответствовать своей репутации.
Поппа Фриц, который был в театре почти столько же, сколько привидение, раздавал чашки с кофе и заигрывал с девушками-статистками. Если кто и отвечал за долгую жизнь легенды о Демоне Потайных Ходов, так это Поппа Фриц. Сторож служебного входа сталкивался с призраком не один раз, обычно когда бывал навеселе, и, рассказывая об этих случаях, вечно привирал и украшал истории всякими подробностями.
Если верить Поппа Фрицу, призрак был двадцати футов ростом и светился в темноте, в зрачках его огромных глаз ярко сияли красные черепа, а плащ был соткан из волос замученных актрис.
Детлеф поступил так же, как поступил бы и Демон Потайных Ходов: он сосредоточился на Иллоне Хорвата и Еве Савиньен. У них было не много совместных сцен, но контраст между женщинами представлялся жизненно важным для спектакля, а прошлой ночью Ева затмевала Иллону в ущерб пьесе. Фокус состоял в том, что требовалось усилить игру одной, не ослабив игры другой.
Иллона была не в лучшем настроении, но старалась изо всех сил, внимательно слушая Детлефа и в точности следуя его указаниям. Она хорошо осознавала свое положение. Родив несколько лет назад близнецов, актриса постоянно боролась за свою фигуру. Прошлой ночью она должна была понять, что в следующей постановке Театра Варгра Бреугеля главная женская роль достанется Еве Савиньен, а ей предложат сыграть чью-нибудь матушку. Рейнхард Жесснер, стоящий неподалеку, чтобы просто читать слова своей роли, поддерживал жену, но старался не мешать режиссеру.
Ева, однако, была спокойна и тверда, демонстрируя всем, что внутри этого гибкого тела спрятан костяк из чистой стали. Благодаря Ните она получила шанс взлететь от инженю до звезды и поэтому старалась еще больше, чем Иллона. Она не то чтобы кокетничала, но знала, как польстить человеку так, чтобы он этого не заметил, как втереться в доверие без лишней елейности, как продвинуться, не выказав и намека на амбициозность. В конце концов, Ева станет великой звездой, необычайным явлением. Демон Потайных Ходов знал это с самого начала, когда она еще играла простенькую роль без слов в «Предательстве Освальда». С тех пор она выросла. Он испытывал гордость за ее достижения, но и некое ноющее чувство неуверенности.
Сейчас, пока Иллона и Детлеф разыгрывали сцену, в которой Соня впервые встречается с Хайдой и увлекается им, Ева сидела на столе, обхватив руками коленки и внимательно наблюдая, а Рейнхард Жесснер суетился рядом, массируя ей разболевшуюся спину.
Прежде чем взойти на вершину горы, надо взобраться на ее подножие, и ходили шепотки, что Ева без колебаний уведет Рейнхарда у Иллоны, пока не сумеет захомутать Детлефа. Демон Потайных Ходов не принимал в расчет эти сплетни, потому что лучше знал девушку, прекрасно понимал ее. Для нее не будет существовать личной жизни, пока она не убедится в незыблемости своего положения.
Потом Детлеф работал с Евой, повторяя их ссору в финале, ободряюще улыбаясь в перерывах между тем, как бросать ей в лицо отвратительные слова. Когда их диалог завершился, Детлеф легонько хлопнул Еву по голове, и она повалилась, будто подкошенная могучим ударом. Остальные актеры зааплодировали, и Рейнхард помог ей подняться. Привидение заметило, как Иллона, покусывая губу, внимательно наблюдает за мужем. Ева слегка оттолкнула Рейнхарда, не грубо и без заигрывания, и сосредоточила внимание на том, что говорил о ее игре Детлеф, кивая в ответ на его замечания, вбирая их в себя.
Демон Потайных Ходов понял, что не ошибся насчет Евы Савиньен. Девочка не нуждается в протекции. Она пробьется исключительно благодаря своему таланту. И все же, несмотря на привязанность к ней, он не мог не понимать, что есть в ней некая бесчувственность. Подобно многим великим актерам, под ролями могло не оказаться реальной личности.
– Хорошо, – подвел итог Детлеф. – Я доволен. Давайте сегодня вечером выйдем и сразим всех наповал.
5
Местная шлюха храпела, закрыв припухшие глаза, пока Шейдт жевал жесткое мясо, проталкивая его куски внутрь с помощью горького вина. Он вернулся в свою комнату и довел свои желания до сведения хозяина постоялого двора в выражениях куда более грубых, чем этот болван привык слышать от священнослужителя Порядка. Анимус оставался в его голове, когда Шейдт исполнял желания, которые демон отыскал в его душе. Маска стала теперь частью его самого, и он мог открывать рот, чтобы есть, говорить и обжираться снова…
Почесываясь, он встал перед алтарем, который возвел в углу комнаты, когда приехал в гостиницу. Это было аккуратно сложенное, выверенное и симметричное сооружение из металлических прутьев и деревянных панелей, символ силы ордена перед лицом Хаоса, а в центре находились солнечные часы с выгравированными изречениями его веры, украшенные свежими листьями. Он задрал мантию и помочился на алтарь, смывая листья мощной струей.
Шум разбудил проститутку, и она, всхлипывая, отвернулась лицом к стене. После долгих лет воздержания Шейдт был не слишком-то нежным любовником.
В дверь постучали.
– Кто там? – проворчал Шейдт.
Дверь отворилась, и внутрь проскользнул прислужник. Они все, должно быть, трепещут перед ним.
– Брат Нахбар?
Прислужник вытаращил на Шейдта глаза, потрясенный тем, что увидел. Он сотворил знак Порядка, и Шейдт повернулся к нему, последние капли мочи обозначили полукруг на дощатом полу.
Шейдт опустил мантию.
Нахбар лишился дара речи.
Анимус сказал Шейдту, что ему не пристало дальше оставаться рядом с подобными болванами.
– Достань мне коня, – приказал Шейдт. – Я уезжаю из этого чумного барака.
Нахбар кивнул и исчез. Идиот настолько свихнулся на Порядке, что стал бы выполнять команды Шейдта, даже прикажи ему тот есть собственные экскременты или всадить длинный меч в свое тощее брюхо. Может, в качестве прощального жеста он и прикажет брату сделать это и аккуратно затолкает внутрь торчащий конец. Нет, в мире и так довольно аккуратности. Пусть конец торчит наружу, чтобы кто-нибудь споткнулся о него.
Шейдт залил остатками вина отвратительный привкус во рту и вышвырнул бутылку из окна, не обращая внимания на звон осколков внизу. Может, напорется кто-нибудь босоногий.
После того как Анимус и Шейдт пришли к согласию в их общем теле, порождение Дракенфелса могло позволить себе немножко подремать. Дело было не в том, чтобы подчинить себе волю хозяина, а в том, чтобы позволить ему делать то, что ему всегда хотелось. Хозяин не был рабом. Скорее, наоборот, Анимус освобождал его от него самого, от условностей, ограничивающих его желания. Учитывая угрюмую серость существования Шейдта, Анимус оказал ему услугу.
Нахбару понадобится некоторое время, чтобы добыть лошадь. Шейдт откашлялся и сплюнул в курящиеся паром остатки алтаря. Он снова вернулся в кровать, грубо перевернул проститутку на спину, тяжелым ударом заставив ее окончательно проснуться. Он разорвал на ней остатки лохмотьев и грубо овладел ей, рыча, как собака.
Взошла луна, и Женевьева была уже на ногах. Она пробудилась с сознанием собственной силы. Хорошо поев, она днями не будет испытывать красной жажды.
На Храмовой улице царило оживление, толпы спешили в Театр Варгра Бреугеля на вечернее представление. Цитаты из критических статей, развешанные на досках над дверьми театра, позабавили Женевьеву.
Продавец газет обменивал листки на монеты, крича про новое убийство, совершенное Боевым Ястребом. Жестокость явно продавалась хорошо. Все в городе половину времени проводили, глядя в небеса, ожидая, что вот-вот оттуда, из тьмы, упадет огромная птица с растопыренными когтями.
Вкус у ночи был отменный. Первый туман увивался вокруг ее лодыжек. Над канавой согнулась чуть не вдвое старуха, руками без перчаток выуживая из нее собачьи экскременты и бросая их в мешок. Это сборщица, она продаст свой дерьмовый урожай на сыромятню, там его используют для выделки шкур. Женщина инстинктивно отпрянула от Женевьевы. Естественно, вампироненавистница. Некоторые люди не возражают против того, чтобы собирать дерьмо, но не в силах вынести присутствия рядом нежити.
Поппа Фриц узнал Женевьеву и с поклоном пропустил в Театр Варгра Бреугеля через служебный вход.
– Демон Потайных Ходов сегодня где-то здесь, мадемуазель Дьедонне.
Она годами слушала эти россказни старика. Любя его, она полюбила и его привидение.
– Нашему призраку понравилась драма? – спросила она.
Поппа Фриц хихикнул:
– О да. «Доктор Зикхилл и мистер Хайда» явно ему по вкусу. Со всей этой кровью.
Она дружески показала ему зубы.
– Прошу прощения, мадемуазель.
– Все в порядке.
Внутри все были заняты делом. Сегодня она увидит спектакль из-за кулис. Потом Детлеф станет выпытывать у нее подробности, просить ее незамысловатых советов. На свободном месте Рейнхард Жесснер упражнялся в фехтовании, обнаженный по пояс, потный, с красиво перекатывающимися под кожей мускулами. Он отсалютовал ей рапирой и продолжил бой с тенью.
Она втянула ноздрями запах театра. Дерева, и табачного дыма, и ладана, и грима, и людей.
Перед ней закачался канат, и с небес, немного запыхавшись, спустился Детлеф. Живот у него, может, и вырос, но руки были сильными, как и прежде. Он тяжело ступил на сцену и крепко обнял Женевьеву.
– Жени, дорогая, как раз вовремя…
Ему надо было разузнать у нее уйму всякой всячины, но его уже звал Гуглиэльмо с какими-то нудными деловыми вопросами.
– Увидимся позже, перед представлением, – сказал он. – Смотри будь осторожнее.
Женевьева побрела по театру, стараясь не соваться под ноги. Мастер Стемпль помешивал в котелке бутафорскую кровь, варя ее на медленном огне, будто доктор Зикхилл – свое зелье. Он опустил в горшок прутик, потом поднес его к свету.
– Слишком алая, вам не кажется? – спросил он, обернувшись к ней.
Она пожала плечами. Варево не пахло кровью, у него не было того блеска, от которого пробуждалась ее кровавая жажда. Но для не-вампиров сойдет.
Она направилась к женским грим-уборным, миновала охапки цветов возле тесной комнатки Евы Савиньен и вошла в самую большую из расположенных вдоль этого коридора комнат. Иллона, уставившись в зеркало, тщательно красила лицо. Женевьева в зеркале не отразилась, но актриса почувствовала ее присутствие и оглянулась, попытавшись улыбнуться так, чтобы не испортить подсыхающий грим.
Иллона тоже была ветераном Дракенфелса. Они понимали друг друга без слов.
– Видела рецензии? – спросила Иллона.
Женевьева кивнула. Она понимала, что беспокоит подругу.
– Сияет новая звезда? – процитировала Иллона.
– Ева была хороша.
– Да, очень хороша.
– И ты тоже.
– Хм, возможно. Только надо было еще лучше.
Актриса занялась морщинками вокруг рта и глаз, запудривая их, скрывая под маской из муки и кошенили[1]. Иллона Хорвата, несомненно, красивая женщина. Но ей тридцать четыре. А Еве Савиньен – двадцать два.
– Знаешь, в следующий раз она расположится в этой комнате, – сказала Иллона. – Ее становится все больше. Это видно даже на сцене, даже на репетициях.
– У нее хорошая роль.
– Да, и она ее сделала. И она должна занять эту комнату, должна сидеть здесь.
Иллона принялась расчесывать волосы. В них уже блестели первые серебряные нити.
– Помнишь Лилли Ниссен? – спросила она. – Великую звезду?
– Как же не помнить? Она должна была играть меня, а закончилось тем, что я играла ее. Мой единственный выход к огням рампы.
– Да. Пять лет назад я смотрела на Лилли Ниссен и думала, что она дура, раз цепляется за прошлое, о котором пора забыть, и настаивает на том, чтобы играть роли лет на десять-двадцать моложе нее. Я даже говорила, что она должна бы быть рада играть матерей. Есть ведь отличные роли.
– Ты была права.
– Да, я знаю. Потому-то так и больно.
– Это со всеми случается, Иллона. Все становятся старше.
– Не все, Жени. Ты – нет.
– Я тоже старею. Внутри, в душе, я очень стара.
– То, что внутри, в театре не важно. Важно, что здесь, – она указала на свое лицо, – что снаружи.
Женевьеве нечего было ей ответить, нечем утешить Иллону.
– Удачи тебе сегодня вечером, – сделала она слабую попытку.
– Спасибо, Жени.
Иллона снова уставилась в зеркало, и Женевьева отвернулась от пустой поверхности стекла, в котором не было ее отражения. У нее появилось ощущение, будто из-за зеркала, оттуда, где оно могло бы быть, на нее с любопытством смотрят чьи-то глаза.
Демон Потайных Ходов протискивался по проходу позади дамских гримерок, заглядывая в прозрачные с одной стороны зеркала, будто хозяин аквариума, любующийся рыбками. Вампир Женевьева была у Иллоны Хорвата, они разговаривали о Еве Савиньен. О Еве будут говорить все, сегодня, завтра и еще долго…
В следующей комнате переодевались девушки-статистки. Хильда брила свои длинные ноги при помощи опасной бритвы и дешевого мыла, а Вильгельмина запихивала за корсаж носовые платки. Он еще достаточно хорошо помнил, что он мужчина, чтобы задержаться здесь, разглядывая стройных молодых женщин, ощущая возбуждение и чувство вины.
Ему нравилось считать себя хранителем, а не соглядатаем.
Он заставил себя оторваться от этого зрелища и перешел к следующему зеркалу. Проход был узкий, и он, протискиваясь, обтирал спиной стену и чувствовал, как трещит его грубая кожа.
За этим зеркалом находилась Ева Савиньен, уже в костюме. Она сидела перед зеркалом, уронив руки на колени, глядя пустым взглядом на свое отражение. В одиночестве она походила на лежащую на складе куклу, ждущую, чтобы руки кукловода вдохнули в нее жизнь.
И этой-то жизнью она и станет жить.
Демон Потайных Ходов уставился на безупречное личико Евы, опасаясь, как бы в стекле не появилась его собственная тень. Он порадовался тому, что зеркало не посеребрено с этой стороны и он не видит своего отвратительного облика.
– Ева, – выдохнул он.
Девушка оглянулась и улыбнулась в зеркало. В первый раз, когда шел «Туманный фарс», актриса сначала не поверила своим ушам.
– Ева, – повторил он.
Тогда она притихла, уверенная, что голос точно был.
– Кто здесь?
– Это… это дух, дитя мое.
Актриса тотчас насторожилась.
– Рейнхард, это вы? Господин Зирк?
– Я дух этого театра. Ты будешь великой звездой, Ева. Если у тебя есть сила духа, если будешь стараться…
Ева потупилась и поплотнее завернулась в халат.
– Послушай, – продолжал он. – Я могу помочь тебе…
Он приходил к зеркалу в ее гримерной на протяжении месяцев, давая ей советы, комментируя каждый нюанс ее игры, убеждая совершенствовать свой дар.
Теперь он помог ей всем, чем мог. Скоро ее будущее станет зависеть только от нее самой.
– В четвертом действии, – сказал он, – когда ты падаешь, то исчезаешь с глаз зрителей. Лучше покажи им, как ты умираешь.
Ева, само внимание, кивнула.
6
Лошадь пала под ним перед рассветом. После этого Анимус заставил Шейдта бежать в рассветном сумраке почти со скоростью животного, которое он загнал до смерти.
Если бы и существовал рекорд по скорости путешествия от Серых гор до Альтдорфа, Шейдт побил бы его. Никакой имперский курьер не смог бы превзойти его в выносливости, решимости и целеустремленности.
Шейдт до крови стер башмаками ноги, его суставы хрустели на каждом шагу, но Анимус не обращал внимания на боль своего хозяина. Покуда кости и мышцы Шейдта оставались в основном невредимыми, он мог продолжать движение. Если служитель Солкана свалится в изнеможении, Анимус просто найдет себе другого хозяина.
Вставало солнце, дорога ложилась ему под топочущие ноги. Шейдт уступил Анимусу, передал ему управление своим телом, периодически впадая в оцепенение, в это время его сознание отключалось, позволяя существу внутри него крепче цепляться за жизнь, лучше видеть мир вокруг. Они уже удалились от скал и достигли Рейксвальдского леса. Вечнозеленые растения высоко вздымались вдоль прямой дороги. Ноги Шейдта выбивали ямки в дорожной пыли. Его топот и тяжелое дыхание были единственными звуками в пределах слышимости.
Впереди Анимус заметил маленькую фигурку, боком сидящую верхом на пони и медленно ползущую по дороге. Это была пухлая пожилая женщина в одеянии жрицы Шаллии. В сельской местности жрицы часто переезжали от деревни к деревне, применяя свое искусство исцеления, принимая роды, помогая хворым.
Шейдт догнал пони и стащил жрицу с ее насеста. Она сопротивлялась, и он переломил ей хребет и швырнул в придорожную канаву. Пони просел под неподъемной для него тяжестью, и Шейдт вонзил пятки ему в бока, будто шпоры. Животное не протянет и до полудня, но даст ему скорость.
– Мои ботинки, – сказала девушка.
– Ботинки?
– Там снег. Я не могу выйти на улицу без меховых ботинок.
Девушка стояла перед ним, словно сделавшись выше ростом, распрямившись, расправив плечи. На щеке у нее виднелся красный мазок, след старого удара.
Он сжимал и разжимал кулаки, потом сунул мясистую руку в перчатку со стальными шипами. Это выглядело впечатляюще.
– Поживее, Нита, голубушка, – глумливо бросил он. Из-за бутафорских зубов губы его выпятились, рот искривился. – У твоего мистера Хайды важное свидание. Мы не можем допустить, чтобы шваль вроде тебя болталась тут, пока мы будем развлекать леди.
– Мои ботинки.
Это был третий вечер. Ева Савиньен играла еще лучше, чем в первых двух представлениях. У Иллоны дела тоже шли очень хорошо, и все же Ева затмевала ее. В этом было что-то сверхъестественное. И Детлеф знал, что это исходит не от него. Нечто, будто цветок, распускалось внутри самой девушки.
Она двинулась по сцене к огням рампы. Он не давал ей указаний идти туда. Теперь внимание зрителей сфокусируется на ней. А ему, чтобы удачно нанести удар, придется оказаться в тени.
Умная девочка.
– Будут тебе ботинки, – сказал он, двинувшись вслед за ней и занося перчатку.
«Интересно, – думал он, – кто-нибудь научил малышку Еву, как красть у партнеров внимание публики? Она ведет себя как опытная воровка».
Сжимая мешок с бутафорской кровью, он опустил руку, тяжело ударив партнершу сзади. Брызнула кровь.
Она упала, но не рухнула на сцену, а опустилась на колени. Увидев возможность, она уцепилась за нее. Кровь стекала по ее красивому лицу, она долгое безмолвное мгновение смотрела в зал, потом повалилась ничком.
И все было кончено, ему осталось только переписать эту сцену.
Демон Потайных Ходов наблюдал из 7-й ложи за игрой своей ученицы и был доволен. Через Еву он снова мог властвовать над зрителями, мог заставить их испытывать радость, горе, любовь, ненависть…
За многие сезоны ни один из начинающих не взволновал его так.
Ее новая сцена смерти была мастерски сыгранным, незабываемым моментом. Теперь она принадлежит Ните, а не Хайде. Публика запомнит эту пьесу как историю про гибель уличной девки, а не про двойственность натуры святоши.
Он был слишком восхищен, чтобы внести свою лепту в овации, которыми взорвался зал, едва Ева Савиньен вышла на бис. На сцену несли цветы. Остальные актеры присоединились к аплодисментам зрителей. Даже Детлеф Зирк сдержанно приветствовал ее. Она держалась скромно, лишь сдержанно раскланивалась.
Обессиленной после представления, ей больше нечего было им дать. Она выполнила свой долг перед зрителями и знала, как принимать их хвалы.
Ею надо должным образом заниматься. Найти для нее пьесу, наиболее выигрышную роль. Ей может понадобиться покровитель не меньше, чем начинающей.
Приветствуя ее, они славили Демона Потайных Ходов.
Девушка прошмыгнула мимо Женевьевы, спеша в свою гримерную, служитель тащил за ней цветы. Ева Савиньен никогда не заговаривала с ней, кроме случаев, когда того требовала обычная вежливость. Женевьева решила, что она опасается вампиров.
– Потрясающее создание, – сказал Детлеф, вытирая измазанное гримом лицо. – В самом деле потрясающее.
Она кивнула, соглашаясь.
– Она отобрала у меня эту сцену, как ты отобрала бы игрушку у малого ребенка. Давненько никто такого не делал.
– Как ты думаешь, каково Иллоне?
Детлеф задумался, он хмурился, удаляя слои грима, благодаря которым получались нависшие брови Хайды. Ева сейчас опять была в своей гримерке, одна.
– Она проводит уйму времени в своей комнате, верно? Как ты думаешь, у нее есть ревнивый любовник?
Он подумал, потом выплюнул в ладонь фальшивые зубы Хайды.
– Нет. Я думаю, что она неистово молится только одному божеству – себе, Жени. Она проводит все свободное время, добиваясь совершенства.
– И она его добилась?
– Для себя – да. Не уверен, что труппа будет рада и дальше работать с ней.
– Я думаю, у нее есть и другие предложения. Сегодня вечером доставили цветы от Лютце из Императорского Театра Таррадаша.
Детлеф пожал плечами:
– Разумеется. Театр – это гнездо стервятников. А Ева – лакомый кусочек.
– Весьма, – отозвалась она, чувствуя, как язык защипало от красной жажды.
– Жени, – проворчал Детлеф.
– Не волнуйся, – ответила она. – Я думаю, у нее жидкая кровь.
– Лютце ее не получит. Там ей годами пришлось бы ходить в начинающих, прежде чем получить нечто похожее на главную роль. Я подыщу для нее что-нибудь после того, как «Доктор Зикхилл и мистер Хайда» сойдет со сцены.
– Она останется?
– Если она настолько умна, как я думаю. Бриллиант нуждается в оправе, а у нас лучшая труппа в Альтдорфе. Она не захочет быть Лилли Ниссен, окружающей себя пятиразрядными актрисками, чтобы ярче сиять на их фоне. Чтобы расти дальше, ей нужно соперничать с сильными.
– Детлеф, она тебе нравится?
– Она лучшая молодая актриса этого сезона.
– Но она нравится тебе?
Он повел плечами.
– Она актриса, Жени. Хорошая, возможно, великая актриса. Вот и все. И чтобы понять это, не обязательно ее любить.
Внимание Женевьевы привлекли подавленные всхлипы. У служебного входа Рейнхард тряхнул за плечи Иллону. Они ссорились, и Иллона явно была очень расстроена. Нетрудно было догадаться о причине их ссоры. Мимо пары протопал Поппа Фриц, сгибаясь под тяжестью огромной корзины с цветами.
Рейнхард притянул Иллону к себе и попытался успокоить ее в своих объятиях.
– Это все пьеса, – сказал Детлеф. – Она заставляет нас узнавать о себе то, чего мы, возможно, предпочли бы не знать.
Тьма была в его глазах.
7
После трех дней пешего пути Шейдт подходил к Альтдорфу. Анимус теперь вел себя тихо, и он вспоминал подробности своего путешествия, как будто пытался сложить из кусочков яркий, но быстро исчезающий из памяти ночной кошмар. Гибли животные, и люди тоже. Боль стала теперь его постоянной спутницей. Но это было не важно. Эта боль принадлежала словно не ему, а кому-то другому, не имеющему отношения к его душе, его сердцу. Башмаки с ног придется срезать, в них запеклась кровь. Его левая рука сломана и нелепо болтается. Одежда изодрана и вся в дорожной грязи. Лицо стало застывшим, неподвижным, точная копия приросшей к нему маски. Не ощущая своих ран, Шейдт нога за ногу устало тащился по глубокой колее проселочной дороги.
Впереди были городские ворота. Перед ними толпился народ, дожидаясь, когда с их товаров возьмут императорскую пошлину. Там же стояла стража, очевидно высматривая уголовников и убийц. А солдаты собирали свою десятину с торговцев, явившихся в Альтдорф со скоропортящимися товарами, шелками, драгоценностями или оружием.
Две молоденькие проститутки перешучивались с караульными. Осел картинно испражнялся прямо посреди дороги, вызвав переполох среди людей, старавшихся отодвинуться подальше от его хвоста, и жаркий спор между владельцем скотины и остальными очевидцами безобразия. Шейдт присоединился к группе пеших странников и ждал, когда их пропустят. В воротах офицер стражи проверял кошельки. Тех, у кого было меньше пяти крон, в город не пускали. В Альтдорфе и без того хватало нищих.
Пропустили уличного торговца сластями с лотком пирожных. Теперь настала очередь Шейдта. Офицер рассмеялся.
– У тебя шансов нет, голодранец.
Анимус пробудился в голове Шейдта и уставился на офицера. Смех оборвался.
– Я служитель Солкана. Альтдорфский университет поручится за меня, – пояснил Шейдт.
Офицер недоверчиво смотрел на него.
– Ты больше похож на бродягу с помойки.
– Дайте мне пройти.
– Тогда показывай деньги.
У Шейдта их не было вовсе. Он, должно быть, потерял их за время пути вместе со шляпой и плащом. Офицер повернулся к следующему в очереди, моряку, возвращающемуся на свой корабль в альтдорфские доки, и принялся проверять его бумаги.
– Дайте мне пройти, – повторил Шейдт.
Офицер не обращал на него никакого внимания, его грубо отпихнули с дороги.
Шейдт проковылял шагов двадцать назад на непослушных ногах. Потом он пригнул голову и ринулся к воротам. Его голова проскочила между моряком и офицером, а плечи припечатали обоих мужчин к железной решетке ворот. Тенькнула тетива, и арбалетный болт ударил его в спину.
Он ухватился за прутья решетки и раздвинул их легко, будто занавески. Он слышал проклятия солдат и остальной толпы. Железо выгнулось и лопнуло. По другую сторону ворот разносчик сластей в ужасе смотрел на происходящее, роняя с лотка пирожные.
На пути у Шейдта оказался моряк. Шейдт сжал кулак и ударил парня с такой силой, что у того нос вышел на затылке. Когда он выдергивал окровавленный кулак, раздалось хлюпанье, словно он вытащил руку из миски с густой полузастывшей овсяной кашей.
Солдат замахнулся на него коротким мечом, и Шейдт закрылся покалеченной рукой. Клинок угодил ему в предплечье, застряв в сломанной кости. Шейдт резко двинул рукой вперед, ударив владельца меча в лицо кромкой его же оружия. Солдат рухнул с разрубленной головой, освободив ему путь. В воротах теперь была дыра. Шейдт прошел в нее, из руки его все еще торчал меч.
– Стой, именем Императора! – прокричал офицер.
Шейдт почувствовал удар в спину, его бросило вперед. Устояв на ногах, он обернулся и увидел, что офицер стоит в облаке дыма. Человек держал в руках кремневый пистолет. Шейдт ощутил, как воздух холодит его обнажившиеся лопатки. Пуля взорвалась, и ее осколки разлетелись, разрывая в клочья его одежду и кожу. Офицер насыпал в пистолет порох из рога и потянулся к мешочку со свинцовыми пулями.
Шейдт устремился к офицеру и здоровой рукой вырвал у него рог. Он вытряхнул белый порошок из него прямо человеку в лицо и ухватил пистолет за дуло, просунув палец в спусковую скобу. С предохранителя тот был снят.
Глаза офицера в панике расширились, он задохнулся.
Шейдт локтем ударил офицера в кадык, сбив его на мостовую. Он поднес пистолет к напудренному, как у клоуна, лицу и нажал на курок костяшкой пальца. Кремень высек искру прямо офицеру в глаза. Вокруг головы человека вспыхнуло облачко огня, и Шейдт пошел прочь. Когда он торопливо шагал от ворот, перерубленная в предплечье рука оторвалась и упала в придорожную канаву.
Ему нужно было поупражняться в превращениях. Не в смысле грима – все эти спрятанные в ладони вставные зубы, эластичные парики, морщины, которые видны лишь при определенном освещении, – но во всем остальном. Кто-то другой, может, сделал бы из себя чудовище внешне. Чтобы выглядеть убедительным, Хайда Детлефа должен вырастать изнутри.
Он в одиночестве сидел в театральном буфете, уставившись на выщербленную деревянную доску стола, пытаясь отыскать тьму в своем сердце. В сердцах своих зрителей.
Он вспоминал глаза Дракенфелса. Вспоминал месяцы, проведенные в крепости Мундсен. Некоторые чудовищами рождаются, а не становятся. Но голод и жестокость способны толкнуть человека на что угодно. Что могло бы превратить его, Детлефа Зирка, в нечто столь же чудовищно злое, как Вечный Дракенфелс? Великий Чародей становился таким веками, тысячелетиями. Магия и грехи, искушения и ужас, честолюбие и страдания. Становятся ли люди хайдами постепенно, подобно тому, как сыплются песчинки в песочных часах, или превращение происходит мгновенно, как на сцене?
Он стиснул кулаки и представил, что наносит ими удары. Представил сокрушаемые черепа.
Череп Евы Савиньен.
Черная рука схватила его сердце и медленно сжала. Его кулаки закаменели, он оскалился, обнажая зубы.
Тьма пульсировала в его мозгу.
Мистер Хайда вырос в нем, и плечи Детлефа поникли, это его тело приняло облик монстра.
Животное начало проросло внутри его собственного.
В зле присутствовало такое наслаждение. Такая простота и легкость. Такая свобода. От желания до его осуществления было рукой подать. Свирепая простота дикости.
Наконец-то Детлеф понял.
– Детлеф Зирк, – произнес голос, пробившись сквозь его мысли. – Я Виктор Расселас, управляющий и советник Морнана Тибальта, канцлера Империи, директора Имперского банка Альтдорфа.
Детлеф смотрел на человека, пытаясь сфокусировать зрение.
Это был хрупкий тип, одетый в темно-серое, в затянутой в перчатку руке он держал свиток. Вместо герба стояла печать Имперской канцелярии.
– Я уполномочен вручить вам эту петицию, – монотонно бубнил Расселас, – с требованием, чтобы вы прекратили показывать спектакль «Странная история доктора Зикхилла и мистера Хайды». Она подписана более чем сотней выдающихся граждан Империи. Мы утверждаем, что ваша драма пробуждает жестокие наклонности в публике, и в эти кровожадные времена такое возбуждение…
Расселас задохнулся, потому что руки Детлефа сомкнулись на его горле.
Детлеф смотрел на искаженное ужасом лицо человечка и стискивал его шею все сильнее, наслаждаясь ощущением трепещущих под пальцами мышц. Лицо Расселаса несколько раз поменяло цвет.
Детлеф ударил советника головой о стену. Тоже неплохое ощущение. Он повторил.
– Что ты делаешь?
Он едва услышал этот голос. Просунув большой палец за ухо Расселаса, он с силой, вонзая ноготь в кожу, нажал на пульсирующую там вену.
Еще несколько секунд удовольствия, и пульс затихнет.
– Детлеф!
Чьи-то руки вцепились в его плечо. Женевьева.
Тьма в его мозгу обратилась в туман и рассеялась. Он почувствовал, что у него все болит, зубы накрепко стиснуты, голова раскалывается, все кости в руке будто перемолоты. Он выпустил задыхающегося советника и рухнул на руки Женевьеве. Она с легкостью приняла его вес и мягко опустила Детлефа в кресло.
Расселас кое-как поднялся на ноги и ослабил воротник. Кожа его от злости пошла красными пятнами. Он испарился, оставив свою петицию.
– О чем ты думал? – спросила Женевьева.
Он не знал.
8
Ученица обучалась быстрее, чем ожидал Демон Потайных Ходов. Она, как кокетливый вампир, искусно высасывала из него досуха весь его опыт, все мастерство. И пила их маленькими быстрыми глоточками.
Скоро он будет пуст. Совсем.
Сидя у себя в комнате перед зеркалом, Ева безудержно рыдала, лицо ее превратилось в застывшую маску горя. Потом, в одно мгновение, едва достаточное, чтобы задуть свечу, она полностью успокоилась.
– Хорошо, – сказал он.
Она скромно приняла его похвалу. Упражнения были окончены.
– Ты отказалась от предложения Лютце?
– Конечно.
– Это следовало сделать. Потом будут другие. Со временем ты примешь одно из них. Подходящее.
Ева на миг погрустнела. Он не понимал ее настроения.
– Что тревожит тебя, дитя?
– Когда я приму предложение, я должна буду уйти в другой театр.
– Естественно.
– А ты пойдешь со мной?
Он не ответил.
– Дух?
– Дитя, ты не будешь нуждаться во мне вечно.
– Нет. – Она топнула ножкой. – Я тебя никогда не брошу. Ты столько для меня сделал. Эти цветы, эти записки. Они в такой же мере твои, как мои.
Ева говорила неискренне. Ирония судьбы: вне сцены она была скверной лицемеркой. На самом деле она полагала, что уже переросла его, но не была уверена, достаточно ли уже окрепла для того, чтобы шагать дальше без привычного костыля. И еще в глубине души она боялась конкуренции и предполагала, что он найдет себе другую ученицу.
– Я всего лишь добросовестный садовник, дитя. Я способствовал твоему расцвету, но моей заслуги в нем нет.
Ева не знала этого, но она была первой, кого он обучал. Она же будет и последней.
Такие Евы Савиньен встречаются лишь раз в жизни, даже если жизнь долгая, как у Демона Потайных Ходов.
Девушка опять села к зеркалу, глядя на свое отражение. Пыталась ли она увидеть то, что за ним, увидеть его? Эта мысль повергла его в ужас. По шкуре побежали мурашки, он услышал, как капает с него густая слизь.
– Дух, почему я не могу увидеть тебя?
Она уже спрашивала об этом прежде. Он не знал, что ответить.
– У тебя нет тела, которое можно увидеть?
Он едва не засмеялся, но не мог выдавить ни звука. Хотел бы он, чтобы это было так.
– Кто ты?
– Теперь я Демон Потайных Ходов. Когда-то был драматургом и режиссером тоже. Но это было очень давно. До твоего рождения. Даже до рождения твоей матери.
– Как тебя зовут?
– У меня нет имени. Больше нет.
– А какое имя у тебя было?
– Тебе оно все равно ничего не скажет.
– У тебя такой красивый голос, я уверена, ты хорошенький. Очаровательное привидение, как призрак в «Туманном фарсе».
– Нет, дитя.
Демон Потайных Ходов ощутил неловкость. С того дня, как идет этот спектакль, Ева пытается выжать из него что-нибудь о нем же. Прежде все ее вопросы были только о себе самой, о том, как она может улучшить свою игру. Теперь ее обуревало нехарактерное для нее любопытство. Чувство, которое она открыла в себе и которому позволила разрастись.
Она принялась расхаживать по комнате, повернувшись к нему спиной. С самой премьеры из дворца каждый день доставляли букет. Ева покорила принца Люйтпольда. Она вынула вчерашние, слегка увядшие цветы из вазы и сунула их к остальным.
– Я люблю тебя, дух, – сказала она… и солгала.
– Нет, дитя. Но я научу тебя, как изображать любовь.
Она резко повернулась, держа в руке тяжелую вазу, и разбила зеркало вдребезги. Звон осыпающегося стекла прозвучал в узком пространстве туннеля подобно взрыву. Хлынул свет, огнем полоснув его по зажмурившимся глазам. Осколки забарабанили по груди, прилипая к влажным пятнам на шкуре.
Ева попятилась. Стекла звенели у нее под ногами.
Она увидела его. Настоящий, неподдельный ужас брызнул из нее истошным визгом, ее прекрасное лицо исказилось от страха, отвращения, брезгливости, инстинктивной ненависти.
Именно этого он и ожидал.
Снаружи в дверь Евы настойчиво застучали. Из коридора доносились крики.
Он удрал через свой личный потайной ход прежде, чем кто-нибудь успел ворваться в гримерную, прополз по катакомбам, подтягиваясь щупальцами, забиваясь в самое сердце театра, стремясь спастись от света, спрятаться от оскорбленных его видом глаз, укрыться в неизведанных глубинах здания. Он знал этот путь впотьмах, знал каждый поворот и развилки переходов. В самом сердце лабиринта была его лагуна, ставшая для него домом со времени его первого изменения.
Разбилось больше чем зеркало.
Она сломала замок и рывком распахнула дверь. Ева Савиньен билась в истерике, заливая слезами гримерную. «Наконец-то настоящие эмоции», – не без злорадства подумала Женевьева. Впервые Ева давала повод предположить, что вне сцены тоже может испытывать какие-то чувства. Зеркало было разбито вдребезги, в воздухе кружились лепестки растерзанных цветов.
Когда Женевьева шагнула в комнату, а следом за ней толпой ввалились и остальные, актриса отпрянула. Будто пойманный зверек, Ева попятилась в угол, как можно дальше от разбитого зеркала.
Позади смотрового глазка виднелось отверстие.
– Ну, в чем дело? – спросила девушку Иллона.
Ева лишь мотала головой и рвала на себе волосы.
– У нее припадок, – сказал кто-то.
– Нет, – возразила Женевьева. – Она испугалась. Просто испугалась.
Она крепко взяла ее за руки и попыталась утихомирить. Без толку. Женевьеву Ева боялась не меньше, чем того, кто поверг ее в такую панику, кем бы он ни был.
– Тут проход, – доложил от зеркала Поппа Фриц. – Уходит прямо в стену.
– Что случилось? – спрашивал Рейнхард.
Детлеф, расталкивая толпу, пробился в комнату, и Ева бросилась к нему, уткнулась лицом в его рубашку, содрогаясь от рыданий. Потрясенный Детлеф взглянул на Женевьеву, похлопывая Еву по спине, пытаясь успокоить ее. Должность режиссера делала его чем-то вроде всеобщего отца для членов труппы, но к такому поведению он не привык. Особенно со стороны Евы.
Актриса внезапно оторвалась от Детлефа и, стрелой проскочив между заполнивших комнату людей, выбежала за дверь и кинулась по коридору прочь из театра. Детлеф кричал ей вдогонку. Вечером спектакль, и она не могла вот так взять и убежать.
Женевьева осматривала отверстие, обнаружившееся на месте зеркала. Оттуда тянуло холодным сквозняком. И очень своеобразно пахло. Ей показалось, что она услышала, как где-то вдалеке что-то движется.
– Смотрите, тут какая-то жидкость, – объявил Рейнхард, макнув палец в слизистое вещество, налипшее на иззубренный край стекла. Слизь была густая, зеленая.
– Что тут произошло? – спросил Детлеф. – Что проникло к Еве?
Поппа Фриц наклонился к отверстию и потянул носом странный запах.
– Пахнет, как в седьмой ложе, – сказал Рейнхард. Поппа Фриц глубокомысленно кивнул.
– Демон Потайных Ходов, – подтвердил он, постукивая себя по носу.
Детлеф раздраженно всплеснул руками.
Бернаби Шейдт легко отыскал театр. Он стоял на Храмовой улице, одной из самых оживленных в городе. Но к тому моменту, когда они добрались до места, Анимусу от Шейдта пользы было уже немного. Хоть он и забинтовал, как мог, свой обрубок тряпками, оторванными от своего же облачения, но все же потерял много крови. Рана в спине тоже сильно кровоточила, а наконечник арбалетного болта застрял у него в позвоночнике. Этот хозяин умирал под Анимусом, точно так же как кони, которые несли его к Альтдорфу, умирали под Шейдтом.
Он сумел дотащиться до узкого переулка рядом с Театром памяти Варгра Бреугеля и привалился к стене напротив служебного входа. Пока он, пошатываясь, отдыхал, проходящая мимо женщина сунула ему в руку монетку и благословила его именем Шаллии.
Сжимая монетку в уцелевшем кулаке, он оперся о стену. Он знал, что из множества его ран медленно текут струйки крови, но почти ничего не чувствовал. Внезапно дверь служебного входа с грохотом распахнулась, и из нее выбежала девушка. Она должна быть из труппы. Молодая, со струящимися темными волосами.
Анимус заставил Шейдта подняться на слабых ногах и заковылять навстречу девушке, загораживая ей путь. Она увернулась, но переулок был слишком узкий. Он навалился на нее, прижал к стене, потащил вниз. Она сопротивлялась, но не кричала. У нее, и без того охваченной паникой, страха уже не было.
Когда Шейдт повалился на нее сверху, его нога выгнулась не в ту сторону и сломалась, острый конец обломка кости проткнул мышцы и кожу пониже колена. Он вцепился девице в волосы и потянулся к ее лицу.
Теперь девушка начала визжать. Анимус пришпорил своего хозяина. Шейдт прижался лицом к хорошенькому личику девушки, и маска сползла с него, скользнула вниз.
Шейдт вдруг оказался свободен, и тело его захлестнула боль, боль всех его ран. Он завопил, когда мучительная агония пронзила его, будто удар молнии.
Покинутый, он пропадал без Анимуса.
Девушка отпихнула его, успокаиваясь, поднялась.
Шейдт безостановочно дрожал, изо рта стекала струйка. Он свернулся в кровоточащий клубок, обломки его конечностей превратились в сгустки боли. Подняв взгляд, он увидел, как девушка ощупывает свое лицо. Маска была на месте, но еще не приросла. Белый металл поймал лунный свет и вспыхнул, будто фонарь. Она больше не кричала. Но кричал Шейдт, исторгая мучительный, пронзительный смертный вой из глубин своей лишившейся Порядка души.
Детлеф осмотрел отверстие и порадовался тому, что никто не предложил ему обследовать проход. Ему трудновато было бы протискиваться через дыру размером с зеркало, а в темноте, царившей за ней, присутствовало нечто, напомнившее ему о коридорах замка Дракенфелс.
– Оно, наверно, уже ушло на мили отсюда, – сказал он. Рядом с ним, качая головой, стоял Гуглиэльмо с целой пачкой поэтажных планов и схем.
– Здесь ничего не отмечено, но мы всегда знали, что все они в лучшем случае лишь приблизительные. Здание перестраивали, сносили, восстанавливали, ремонтировали много раз.
Женевьева стояла тут же, ожидая. Она была настороженна, будто в любой момент ожидала внезапного нападения. Рабочие сцены ушли искать Еву.
Иллона пыталась казаться обеспокоенной за девушку.
– И эта часть города из-за войн насквозь изрыта потайными ходами и туннелями.
Детлефа тревожило вечернее представление. Публика уже начала прибывать. И все рассчитывали увидеть открытие сезона, Еву Савиньен.
Остальным заниматься было некогда.
9
Новая хозяйка поднялась, уже с Анимусом на лице. Шейдт корчился от боли у ее ног, цеплялся за нее рукой, пытаясь подтянуться и встать.
– Отдай, – выкрикнул он сквозь боль.
Стряхнуть его с себя не составляло труда.
Анимуса заинтриговал и холодный, целеустремленный разум Евы Савиньен, и недавняя вспышка паники, нацарапанная поверх безупречного до этого мига листа ее мыслей. Девушка будет тем транспортом, который доставит его прямо к Женевьеве и Детлефу. Прямо к его цели. Теперь надо быть осмотрительнее.
Как и у Шейдта, у этой хозяйки имелись свои потребности и желания. Анимус решил, что сумеет помочь удовлетворить их. Она разжала и сжала кулаки, чувствуя, как напрягаются и расслабляются мышцы, проверила, как слушаются ее локти, колени. Анимус сознавал, насколько безупречно это юное тело. Спина была гибкой, как хороший лук, стройные ноги пропорциональны, как у самой совершенной, приукрашенной статуи. Она раскинула руки, подняла плечи, отчего грудь стала казаться еще выше.
Визжащий у ее ног человек привлекал внимание. На улице было полно народу, люди отпускали замечания. Скоро кто-нибудь вмешается.
Шейдт отрекался от себя во всем, и когда в его мозгу поселился Анимус, он просто как с цепи сорвался. Ева жила в большем ладу с собой, но все-таки кое-что Анимус мог для нее сделать. И она радушно приняла его, снабжая всей информацией, необходимой ему, чтобы продвигаться к цели.
Оба, Детлеф и Женевьева, находились в здании, но он немного подождет со смертельным ударом. Месть должна быть полной. Ему надо позаботиться о том, чтобы не износить тело новой хозяйки так быстро, как это случилось с Шейдтом.
– Ева, – послышался мужской голос.
Анимус позволил Еве обернуться навстречу мужчине. В дверях служебного входа стоял Рейнхард Жесснер. Актер из труппы Детлефа, фигляр, но неплохой. Может оказаться полезным.
– Что случилось?
– Ничего, – ответила она. – Разволновалась перед выходом на сцену.
Рейнхард, казалось, сомневался.
– Не похоже на тебя.
– Нет, но человек не может быть всегда одинаковым, ты не думаешь?
Она проскользнула мимо него в театр и мимоходом запечатлела на его удивленных губах короткий жадный поцелуй. Спустя всего мгновение он ответил, и Анимус получил представление о душе актера.
Поцелуй прервался, и Рейнхард глянул на Шейдта.
– Кто это?
– Попрошайка, – объяснила она. – Немножко переигрывает, пожалуй.
– У него нога сломана. Кость торчит.
Ева рассмеялась:
– Уж ты-то, Рейнхард, должен был бы знать, какие чудеса может творить грим.
Она захлопнула дверь перед клириком Солкана, который все еще был жив, и позволила Рейнхарду сопроводить ее за кулисы.
– Со мной все в полном порядке, – твердила она. – Это был просто страх сцены… просто случайность… просто паника…
– Через полчаса поднимаем занавес, – объявил Поппа Фриц.
Ева оставила Рейнхарда и направилась назад, в свою гримерную. Анимусу вспомнилось то существо, которое хозяйка видела за зеркалом. Сейчас некогда было этим заниматься.
– Поппа, – сказала она слуге, – принеси новое зеркало и быстро гони сюда мою костюмершу.
Под Театром Варгра Бреугеля, ниже даже пятого этажа подвалов, располагалась лагуна с соленой водой. Сто лет назад она служила убежищем контрабандистам. Ее покидали в спешке: по берегам остались беспорядочные нагромождения коробок с истлевшими шелками и пыльными драгоценностями. Здесь было логово Демона Потайных Ходов. Его книги разбухли от сырости, точно хлеб на дрожжах, но вода его вполне устраивала. Он мог пить морскую воду, и ему требовалось каждые несколько часов окунаться в нее. Если его кожа пересыхала, она трескалась, и это причиняло сильную боль.
Но эта боль была несравнима с болью в сердце, которую он испытывал сейчас.
Он знал, что этим кончится. Другого итога просто не могло быть. Как драматург, он должен был это понимать.
Но…
В полном изнеможении он распростерся на песчаном склоне, его луковицеобразная голова тоже лежала в воде, вокруг плавал воротник из щупалец. Он остался наедине со своим отчаянием.
Все это было тщетной попыткой избавиться от отчаяния.
Он слышал, как капает вода, стекая со стен его крепости, видел подернутое рябью отражение светильников на водной глади.
Порой он думал, не отказаться ли от себя самого, не позволить ли своему телу уплыть по туннелям в Рейк, а оттуда в море. Если бы он отбросил прочь последние проявления человеческой природы, то, может, сумел бы найти удовлетворение в безграничном океане.
Нет.
Он сел, разбив головой зеркало вод, и пополз на берег, оставляя позади влажный след.
Он Демон Потайных Ходов, а не морской дух.
Вокруг по стенам стояли изъеденные временем деревянные статуи богов и богинь – Верена и Мананн, Мирмидия и Сигмар, Морр и Таал. Некогда они служили корабельными носовыми фигурами. Теперь их лица были прочерчены вертикальными морщинами в местах, где растрескались волокна древесины, и укрыты под зелеными масками из мха. Постепенно они становились все менее человеческими. Когда Демон Потайных Ходов впервые отыскал это место – признаки изменении в нем самом едва ли были заметны тогда кому-то другому, – лица были гладкими, узнаваемыми, вдохновляющими. Как он стал безобразным, так стали и они. И все же под масками они сохранили человеческие лица.
Внутри, под шкурой, он все еще был человеком.
Демон Потайных Ходов поднялся. На двух ногах, как человек. Вода смыла часть его боли.
В его берлоге всегда горели фонари. Она была обставлена шикарно, словно дворец, хотя и мебелью, позаимствованной на складе декораций.
Похожая на лодку кровать, в которой он спал, выглядела как бесценная старинная вещь Эпохи Трех Императоров, но на самом деле была добротной копией, сооруженной для забытой постановки «Любовь Оттокара и Мирмидии».
Там, наверху, наверно, готовятся поднять занавес. До сих пор он еще не пропускал представления и сегодня не станет изменять привычке. Из-за такой мелочи, как бессердечная актриса, не станет.
Он снял с крючка плащ, предназначавшийся для механического гиганта в одной из старых мелодрам.
Потом он закутался поплотнее и выскользнул через потайной ход.
Толпа перед театром сочла Шейдта сумасшедшим и пинками выпихнула на улицу. Из только что сломанной ноги торчала кость. На коленях, зажимая одной рукой обрубок другой, он запрокинул голову и кричал.
Мир вращался вокруг него. Не существовало ни одной неподвижной точки. Вот для этого и нужны солнечные часы, когда нет солнца.
В ночном небе собирались тучи, заслоняя луны.
Бернаби Шейдт пронзительно завопил, и люди шарахнулись от него подальше. С него сорвали его лицо, и ему казалось, что он задыхается под маской из голодных муравьев, миллионами крошечных мандибул впрыскивающих яд в его освежеванную плоть.
Высоко в небе показалась точка. Черная покачивающаяся точка.
Его вопль иссяк, осталась лишь боль, пронизывающая все тело насквозь. Его горло было сорвано и кровоточило изнутри.
Точка превратилась в птицу, и он сосредоточил взгляд на ней.
Офицер стражи подошел к Шейдту поближе с дубинкой наготове и встал над ним, пнув его начищенным сапогом.
– Проваливай отсюда, – приказал стражник. – Это приличный район, и типы вроде тебя нам тут не нужны.
Птица стрелой летела вниз, вытянув вперед клюв, сложив крылья.
– Я… служитель… Порядка.
Полицейский сплюнул и пнул его в колено, заставив тело вновь содрогнуться от боли.
Птица уже была тут. Стражник услышал свист воздуха, который сокол вспарывал, словно метательный нож, и обернулся. Он вскинул дубинку и повалился навзничь, прочь от Шейдта, проглотив собственный вопль.
Сокол опустился на голову Шейдта и принялся выклевывать ему глаза, запустив когти в уши. К лапам птицы были прикреплены острые как бритва стальные шпоры, и она умела ими пользоваться.
Вокруг все отчаянно голосили:
– Боевой Ястреб, Боевой Ястреб!
Птице удалось, наконец, клювом вскрыть череп Шейдта, и она начала со знанием дела рыться внутри. Она не ела, она просто разрывала его мозг на куски. Теплая струя хлынула из пробитой головы клирика и потекла по его лицу.
Потом боль исчезла, а птица уже улетала прочь.
Шейдт валялся посреди улицы, неузнаваемый, переломанный, изорванный, превратившийся в кровавое месиво.
Облака рассеялись, и труп залило лунным светом.
10
– Там убийство, – объявил Гуглиэльмо. – Там, на улице.
– Что?!
Каждая новость была как обухом по голове. Детлеф чувствовал, что скоро не выдержит.
Ева стояла тут же, в уголке, пытаясь заверить всех и каждого, что с ней все в порядке, что она может играть сегодня вечером. Она была одета и загримирована для первого действия, превратившись в грязную размалеванную Ниту.
Гуглиэльмо посадил в гримерной Евы здоровенного охранника, но актриса не желала, чтобы ее защищали. Она совершенно переменилась, и Детлеф гадал, не была ли ее прежняя паника игрой. Если так, ей безусловно удалось одурачить его. Но он не мог придумать никаких причин для такого представления. Его собственный костюмер при помощи булавок оправлял на нем одеяние Зикхилла. Синди, помощница гримера, натянула парик с секретом и сверху шляпу. Он чувствовал себя как младенец, вокруг которого все суетятся, но при этом игнорируют, который не личность, а объект.
Если спектакль переживет первую неделю, дальше он может жить вечно. Детлеф не знал, переживут ли эту первую неделю «Странной истории доктора Зикхилла и мистера Хайды» актеры.
Поппа Фриц доложил, что снаружи ходят демонстранты. Их нанял Морнан Тибальт, они явились пикетировать театр на глазах у зрителей. Теперь, намереваясь сорвать спектакль и став очевидцами убийства, они совсем разбушевались.
– Это было очередное убийство Боевого Ястреба.
Детлеф не мог отреагировать мимикой, на лицо уже был нанесен специальный грим. Время шло.
Он потерял из виду Женевьеву, но надеялся, что она сумеет о себе позаботиться. Хотелось бы верить, что и о нем тоже.
– К нам это не имеет отношения, – пояснил Гуглиэльмо. – Жертвой стал какой-то попрошайка.
Иллона Хорвата у себя в комнате громко заполняла ведро своим обедом, как делала это перед каждым представлением каждой пьесы, в котором только участвовала. Синди отступила на шаг и сочла результат своих трудов приемлемым. Внешне он был Зикхиллом. Внутри – он не знал…
Он услышал первые ноты увертюры Феликса Хуберманна.
– Все по местам! – крикнул Детлеф.
Ощущая холод, она пробиралась по узкому проходу, догадываясь, что пол под ногами, похоже, уходит вниз. Было темно, но она в темноте чувствовала себя как дома.
Женевьева знала, что Театр Варгра Бреугеля соединен с лабиринтом туннелей, пересекающихся под городом. Альтдорф пережил слишком много войн, осад, революций и бунтов, и потайные ходы источили все пространство под ним. Откуда-то капала слизь, и запах 7-й ложи в ограниченном пространстве чувствовался еще сильнее. Было, однако, неожиданностью увидеть, что само здание настолько опутано сетью потайных ходов, будто театр – это просто декорация, и стены его не из прочного камня, но из раскрашенного холста.
Из прохода позади дамских грим-уборных – куда, к прозрачным с этой стороны зеркалам, театральное начальство, должно быть, некогда за определенную плату водило богатых городских любителей «клубнички», получая с этого весьма существенный доход, – она попала в некое подобие каменного стакана, из которого на все четыре стороны расходились туннели. В полу и потолке виднелись люки, и она предположила, что это один из тайных перекрестков, узловая точка лабиринта.
Здесь было очень мало паутины, значит, по этим тропам ходили часто. В месте скрещения туннелей в стенной нише горел маленький шарик из какого-то пахучего вещества, освещая «перекресток». Это было пасленное дерево, известное способностью гореть очень медленно, чуть ли не до года.
Судя по всему, берлога была обитаемой.
– Есть кто-нибудь дома? – спросила она, и эхо в туннелях повторило ее слова.
Никакого другого ответа не последовало.
Она помнила мрачные переходы Дракенфелса, и то предчувствие беды, которое поселилось у нее в душе, едва она ступила в замок. Даже еще до того, как что-то случилось, она знала, что это злое место, прибежище чудовищ и безумцев. Здесь было иначе.
Анализируя свои ощущения, она поняла, что не испугана, а подавлена. Что бы ни ходило по этим туннелям, оно ходило одно, жило одно. Оно спряталось во тьме не со злым умыслом, но от стыда, страха, отвращения к себе.
Она открыла дверь, и ее обволокла вонь.
Ее обоняние было острее человеческого, и ей пришлось зажимать нос, пока не рассеялась первая волна. У нее свело судорогой желудок, и ее стошнило бы, если бы в ней была хоть какая-нибудь еда.
Она не нуждалась в пище, но порой ела – за компанию или чтобы попробовать вкус. Но ничего существенного она не ела неделями. Рвотные спазмы были словно удары в живот.
Дотянувшись, она заглянула в буфет.
Это было что-то вроде кладовой, набитой бесцветной рыбой из подземных сточных коллекторов, крысами размером с собаку, всякими мелкими непонятными тварями. Все живые существа лабиринтов несли на себе следы мутации: рыба – без глаз или с зачатками передних конечностей, головы крыс были непропорционально большими по отношению к покрытому редкой шерстью туловищу, глядя на другие существа, не представлялось возможным определить, чем они были прежде. Всех их убил кто-то сильный, кто-то, кто сломал им шеи или вырвал из своих жертв большие куски. Очевидно, этот гурман не притрагивался к мясу, пока оно не потухнет как минимум несколько дней, и оставил эти лакомые кусочки немножко погнить, пока они не станут соответствовать вкусам владельца кладовой.
– О боже! – прошипела Женевьева. – Что за жизнь!
Двинувшись дальше, она дошла до обрыва, словно утес, выраставшего откуда-то из недр города. С него свисало нечто похожее на корабельные снасти, целая паутина толстых канатов, прочных, хоть и разлохматившихся. Спуститься вниз было бы сравнительно несложно, но она решила, что это приключение может подождать до следующей ночи.
До нее доносился плеск воды.
Забираясь в лабиринт, она самонадеянно считала, что сможет вернуться по своим следам. Не сделав и пятидесяти шагов, она очутилась в новом месте и заблудилась.
Ей казалось, что она все еще на том же уровне, что и театр, и если постоять тихо, то, возможно, она даже услышит отдаленные звуки увертюры Феликса. Она не могла уйти по лабиринту далеко. Кругом были люки. Какие-то должны вести обратно, к людям.
Проверив очередную кажущуюся перспективной дверь, она оказалась в окружении книг и бумаг, которыми были набиты стеллажи от пола до потолка. Здесь тоже горела палочка из пасленного дерева, наполняя комнату приятным запахом древесины.
Пасленное дерево называли «погибелью грамотеев», поскольку его дым вызывал легкую эйфорию и постепенное привыкание.
Это была вполне обычная театральная библиотека. Изрядно потрепанные и испещренные неразборчивыми пометками копии известных произведений. Полное собрание пьес Таррадаша, актерские и режиссерские копии других столпов репертуара, некоторые основные книги по драматургическому мастерству, коллекция связанных стопками театральных программ, свернутые в рулон афиши. Среди других книг обнаружился и стоящий вверх ногами переплетенный том Детлефа Зирка.
Женевьева озиралась по сторонам, пытаясь увидеть, не окажется ли здесь какой-нибудь необычной книги, некоего откровения о силе, сокрытой под человеческой кожей, ключа к безграничным магическим возможностям. Ничего подобного здесь не нашлось.
Что она нашла, так это целый стеллаж, отданный под книги автора, о котором она едва слышала, драматурга прошлого века по имени Бруно Малвоизин. Он был автором «Совращения Слаанеши», насколько она помнила, скандальной в свое время пьесы. Не считая этого, он не создал больше ничего, что жило бы в репертуаре по сей день. Женевьева прочла названия пьес на корешках шикарных переплетов: «Трагедия Магритты», «Седьмое путешествие Сигмара», «Храбрый Бенволио», «Эсталианское предательство», «Месть Вамонта», «Похищение Рашели». Между этими обложками уместилась целая жизнь, жизнь прожитая и позабытая. Очевидно, Бруно Малвоизин что-то значил для обитателя лабиринта. Это могло помочь в решении загадки. Она должна спросить Детлефа, знает ли он что-нибудь об этом человеке. Или, наверно, больше пользы будет от Поппы Фрица: страж служебного входа – неиссякаемый источник сведений о театре.
Она вернулась в коридор и проверила следующую дверь. Та вела в тесное пространство, откуда на нее пахнуло хлебом и полыхнуло жаром. Женевьева чуть было не прошла мимо, но заметила, что с другой стороны этого пространства тоже есть дверь. Она втиснулась в узкий лаз и толкнула ее – тяжелую железную дверцу, оказавшуюся незапертой – наружу.
Вывалившись из духовки, она очутилась на кухне Театра памяти Варгра Бреугеля. Шеф-повар обернулся, разинул рот и выронил поднос с выпечкой, предназначавшейся для антракта.
– Простите, – сказала Женевьева. – Я уже думала, что совсем зажарюсь.
11
На протяжении всей пьесы Анимус наблюдал за Детлефом Зирком. В их совместных сценах Ева находилась рядом с ним, и Анимус мог видеть через призму ее сознания. Актер был крупным мужчиной, почти толстым, сильным физически, мощным генератором идей. Теперешняя хозяйка в данный момент едва ли была в состоянии победить его в схватке. Даже если Анимус будет руководить ею, уберет любые ограничения, что накладывают боль или сознание, ей может понадобиться слишком много времени, чтобы справиться с ним. И Ева знала, что, несмотря на кажущуюся хрупкость, вампирша могла оказаться еще более неподатливым противником.
С наездником в мозгу Ева вжилась в роль Ниты как никогда прежде, отобрав спектакль и у Детлефа, и у всех остальных актеров. Конец второго действия остался полностью за ней, когда она на коленях приползла обратно к Хайде, разматывая шарф, прикрывающий ее синяки, и отдаваясь на его волю. Эта яркая сцена вызвала гром аплодисментов.
Когда дали звонок к спуску занавеса, Детлеф сказал:
– Отлично, Ева, но, наверно, впредь лучше бы поменьше…
Она поднялась, вокруг суетились рабочие сцены, меняя декорации. Детлеф смотрел на нее. Он обливался потом, бисерины блестели сквозь грим монстра. У него была изнуряющая роль.
Увивающийся вокруг Рейнхард поцеловал ее в щечку.
– Великолепно! – выпалил он. – Просто откровение…
Детлеф нахмурился, брови Хайды свирепо сдвинулись.
– Она играет все лучше и лучше, разве не так?
– Разумеется, – кивнул актер-постановщик.
– Вы звезда, – объявил Рейнхард, приподняв большим пальцем ее подбородок.
Анимус знал, что Рейнхард Жесснер хочет сексуального контакта с его хозяйкой. Благодаря Бернаби Шейдту он научился узнавать похоть.
– Главное, помните, – сказал Детлеф, – в конце пьесы я вас убью.
Ева улыбнулась и покорно кивнула. Анимус анализировал те сложные эмоции, которые пульсировали в голове хозяйки. Ее мысли были более упорядочены, чем у Шейдта, предполагаемого ярого приверженца Порядка. Она в своем простодушии весьма походила на самого Анимуса. Актриса стремилась к достижению краткосрочных целей и приближалась к ним с каждым шагом. Анимус с удивлением понял, что симпатизирует Еве Савиньен.
Сохраняя хладнокровие, хозяйка стояла у края кулисы, давая возможность костюмерше поменять на ней шаль, а художнику по гриму нанести сценическую кровь и синие мазки на ее лицо.
– Еще цветы, – сообщил старик, которого Ева знала как Поппу Фрица. – Из дворца.
Анимус позволил Еве скупо улыбнуться. Она считала, что восторги влиятельных мужчин отвлекают ее от дела. Несмотря ни на что, несмотря на ее решительность, несмотря на расчетливость, жизнь Евы принадлежала театру. Она думала о том, чтобы обзавестись любовниками, покровителями, положением в обществе. Но все это стало бы лишь средством. Целью ее было стоять в свете рампы, стоять на сцене. Ева понимала, что отличается от других, и не ожидала любви от отдельных личностей. Имела значение лишь публика в целом, это коллективное сердце, которое ей предстояло завоевать.
– И особый букет, – продолжал Поппа Фриц, – от доброго духа…
Еву, к изумлению Анимуса, пробрал озноб. Поппа Фриц протянул карточку, на которой было написано: «От обитателя 7-й ложи».
– Это место Демона Потайных Ходов, – объяснил он. Внутри Евы нарастала паника, но Анимус унял ее.
Проверив память девушки, он понял ее инстинктивные страхи, понял, в какую сложную ситуацию та загнала себя. Он мог помочь ей справиться с этими беспорядочными чувствами, и он сделал это.
Анимус начинал терять ощущение четкой самоидентификации. Начинал думать о себе, как о ней. Его прошлое существование было сном. Теперь он был Евой Савиньен. И она была Евой.
Произнесли ее имя, и она без раздумий заняла свое место на темной сцене. Занавес раздвинулся, появился свет.
Нита продолжала жить.
Сегодня вечером Ева казалась другой. Конечно, Демон Потайных Ходов ожидал этого. После такого шока большинство актрис вообще не вышли бы в этот день на сцену.
Он не мог понять, однако, как могла она быть столь великолепной. На сцене она была совсем другим человеком. Визжащая в гримерке девочка осталась где-то далеко позади, и единственное, что могли видеть зрители, – это Ниту. Он гадал, в какой мере ее блестящая игра обязана страху, обязана памяти о том, что она увидела.
Встретившись с чудовищем в реальной жизни, не стала ли она лучше понимать подружку мистера Хайды? Вернется ли она позднее к своему наставнику-духу, как проститутка из Кислева упорно возвращалась к своему жестокому любовнику?
Призрак был едва ли не испуган. Он понимал Еву-актрису, но никак не мог понять Еву-женщину. Ему даже не верилось по-настоящему, что такая существует.
Он сидел в 7-й ложе, задыхаясь от беззвучных рыданий, чувствуя, как струятся слезы из его огромных глаз.
На сцене Нита съежилась под потоком брани, которой осыпал ее Хайда. Он вытянул ее ивовым прутом по спине и продолжал изрыгать непристойную ругань, оскорбления, издевки.
Демона Потайных Ходов, как и остальных зрителей, охватил ужас.
Хайда Детлефа Зирка кривлялся, как обезьяна, почти плясал от удовольствия, нанося удар за ударом. Поскольку росло мастерство Евы в этой роли, постольку ее звездный партнер тоже был вынужден покорять все новые вершины.
Зло присутствовало в Театре Варгра Бреугеля. Сгустившееся под светом прожекторов, во всем великолепии сверкающее у всех на виду. Зикхилла и Хайду Детлефа будут помнить как одну из его великих ролей. И дело вовсе не в гриме. Казалось, будто актер действительно жил двойственной жизнью, познав и вершины благородства, и глубины безнравственности. Кто-то, пожалуй, мог бы даже усомниться в здравом рассудке исполнителя и решить, что он повторяет путь печально знаменитого Ласло Лёвенштейна, у которого ужасы сценических ролей возобладали над реальной жизнью, человек и монстр стали неразделимы.
На сцене мистер Хайда топтался тяжелыми сапогами по распростертому на полу телу дочери владельца постоялого двора, с удовольствием вышибая из нее дух.
Подслушивая в укромных местах, Демон Потайных Ходов узнал, что билеты на «Доктора Зикхилла и мистера Хайду» продают с рук в десять раз дороже начальной стоимости. Каждый вечер сановники в масках набивались в ложи, не в силах пережить, что не видели пьесу. В партер и на ярусы втиснули дополнительные кресла, а простолюдины отдавали недельный заработок за право постоять у стены, лишь бы прикоснуться к чуду спектакля, стать частичкой этого события.
Публика вскрикнула, когда голова хозяйской дочки оторвалась и Хайда ногой зашвырнул ее за кулисы.
Это было волшебно. И хрупко. Никто не знал, как долго продлится колдовство. Со временем в пьесе могли выработаться некие шаблоны, и все свелось бы к обычному развлекательному зрелищу, и те счастливчики, кому повезло видеть ее прежде, стали бы с жалостью смотреть на остальных, пришедших слишком поздно.
Сцена сменилась. Нита была теперь одна, напевая песенку, пытаясь выклянчить у невидимых прохожих копейки, на которые она могла бы подкупить привратника, чтобы тот выпустил ее из города. Вдали от Хайды у нее еще был бы шанс. Вернувшись в свою деревню, она сумела бы обрести новую жизнь.
Половина зрителей пыталась скрыть слезы.
Руки ее опустились, она чувствовала оскорбительное, как пощечины, равнодушие кислевитов. Ее песня оборвалась, и она тихонько побрела по сцене, вокруг нее кружились трепещущие клочки бумаги, изображая знаменитый снег Кислева. Нита дрожала в своих обносках, обхватив себя руками.
Потом тень Хайды упала на нее. И ее участь была решена.
12
После каждого следующего представления Детлефу, чтобы восстановиться, требовалось все больше времени. У него по сценарию было три крупные драки, четыре бурные любовные сцены и шесть убийств плюс невероятно тяжелые физически сцены превращений. Синяков и ушибов на нем было как на профессиональном боксере. Потел он так, что должен был терять вес фунтами, правда, на его животе это почему-то не отражалось.
Сегодняшним вечером он едва смог выйти на бис. Когда спектакль окончился, груз усталости обрушился на него со страшной силой. В любом случае, все вызывали Еву. Он мог бы спокойно затеряться среди декораций.
Занавес опустился в последний раз, и Рейнхарду пришлось помочь ему сойти со сцены, выбирая дорогу между канатов и задников.
Перед женскими гримерными громоздилась гора цветочных подношений размером с добрый воз. Все для Евы.
Соскребая с лица грим, избавляясь от уродств Хайды, он дотащился до своей гримерки и рухнул на диван. Голова гудела, как наковальня. Рейнхард наверняка зацепил его в поединке, но боли в нем накопилось столько, что он не мог вычленить какую-то отдельную рану. Его костюмер намочил полотенце и положил ему на лоб. Детлеф фальшиво пробормотал слова благодарности.
Он все еще дрожал, мистер Хайда не отпускал его.
Закрывая глаза, он видел изуродованную и расчлененную Еву Савиньен. Видел потоки крови, текущие по улицам Альтдорфа. Видел детей, которых кидали в огонь. Растерзанные людские тела, валяющиеся в грязи внутренности, выклеванные воронами глаза, вырванные языки.
Он очнулся от дремоты, но ужасы продолжали жить в его мозгу.
Рядом стоял Гуглиэльмо с газетами. Все писали о последнем преступлении Боевого Ястреба.
– Стража не знает, кто этот попрошайка, – сообщил Гуглиэльмо. – Постоянные нищие с Храмовой улицы клянутся, что никогда его не видели, хотя у него даже не осталось лица, которое можно было бы опознать. Он носил амулет Солкана, но есть предположение, что он украл его. Никакой связи с другими жертвами. Никакой связи с театром.
Детлеф мог представить, как шипы на когтистых лапах Ястреба впиваются в человеческое тело, как клюв протыкает кожу, долбит кости.
– Я заказал дополнительный патруль ночной стражи на нашу улицу и на ночь оставлю в здании несколько здоровых парней. Все это пахнет неприятностями. Что до разбитого зеркала Евы и жертвы Боевого Ястреба, я думаю, может, это начало действовать какое-нибудь проклятие.
Детлеф сел, спина и руки у него болели. В комнате с важным видом стоял Поппа Фриц.
– В этом театре проклятия уже случались, – объявил старик. – «Странный цветок». Похоже, Демон Потайных Ходов был против него. Спектакль так и не дошел до премьеры. Болезни, несчастные случаи, неудачи, критика, разногласия. Все вместе.
– Нет никакого проклятия, – бросил Детлеф. – «Доктор Зикхилл и мистер Хайда» – это успех.
– Значит, это проклятый успех.
Детлеф фыркнул. Но не смог собраться с духом и сказать, что презирает непрошено возникшее когда-то суеверие, когда все вокруг толковали о проклятых спектаклях. Актеры вполне способны испортить пьесу и без потустороннего вмешательства.
– Тибальт снова призывает нас прекратить спектакли, – продолжал Гуглиэльмо. – Я не знаю, что за муха его укусила. На улице какие-то борцы за нравственность или еще кто весь вечер маршировали взад-вперед. В здание театра швыряли гнилыми фруктами, и пара бугаев пыталась побить обладателей билетов.
Появилась Женевьева.
– Жени, – обрадовался он. – Наконец хоть кто-то здравомыслящий.
– Возможно, – отозвалась она, целуя его в щеку. Как ни странно, от нее пахло свежим хлебом.
– Где ты была?
Она не ответила, но в свою очередь спросила:
– Кто такой Бруно Малвоизин?
– Автор «Совращения Слаанеши»? Этот Бруно Малвоизин?
– Да, этот.
– Драматург прошлых лет. Бретонец по происхождению, но писал на рейкшпиле, так что, наверно, был гражданином Империи.
– Это все?
– Все, что мне известно, – сказал Детлеф, не понимая. – Он, должно быть, умер лет пятьдесят назад.
Поппа Фриц покачал головой:
– Нет, сэр. Малвоизин как раз не умирал.
Женевьева обернулась к старику:
– Вы знаете о нем?
– К чему все это, Жени? – поинтересовался Детлеф.
– Секрет, – ответила она. – Поппа Фриц?
– Да, мадемуазель. Я знаю про Бруно Малвоизина. Я давно в театре. Я видел, как они приходили, видел, как уходили. Все великие, все неудачники. Когда я был молодым, Малвоизин был знаменитым драматургом. И режиссером.
– Здесь, в Альтдорфе?
– Здесь, в этом театре. Когда я стал учеником билетера, он был постоянным автором театра. На него вечно сыпались несчастья. Некоторые его работы запрещали, снимали с показа. Тогдашний Император обозвал «Совращение Слаанеши» непристойным…
– Да, про это я знаю, – перебил Детлеф. – Удивительно противная вещица, хотя и не без определенного стиля. Мы могли бы на один сезон поставить ее снова, соответствующим образом изменив и дополнив.
– Он был задумчивым, одержимым человеком, с ним было трудно работать. Дрался на дуэли с директором театра. Снес ему полголовы за то, что тот сократил его монолог.
– Какой милый парень, да?
– Гений, сэр. Гениям надо делать скидку.
– Да, – кивнул Детлеф. – Конечно.
– Что с ним стало? – спросила Женевьева.
– Он начал меняться. Должно быть, его коснулся варп-камень. Говорили, что «Совращение Слаанеши» оскорбило богов Хаоса и Тзинч страшно отомстил ему. У него лицо изменилось, и он начал превращаться в… в нечто нечеловеческое. Он писал, как бешеный. Мрачные, бессмысленные, непонятные вещи. Безумные пьесы, которые никогда не могли быть поставлены. Он сочинил эпический роман в стихах, приписав Императору любовную связь с козой. Напечатано было анонимно, но ищейки вынюхали, что автор он. Тогда в нем уже едва ли оставалось что-то от человека. Наконец Малвоизин, которого все сторонились, загадочно исчез, ускользнул в ночь.
Детлеф кивнул:
– Именно так и должен был поступить Малвоизин. В своих пьесах он никогда не описывал незагадочные исчезновения, и никто из его героев не ускользал в день. Какой нам прок от всей этой чепухи про старого писаку?
Все взглянули на Женевьеву.
Она подумала немного, прежде чем ответить. Наконец решилась:
– Я думаю, Бруно Малвоизин и есть наш Демон Потайных Ходов.
13
В случае с Бернаби Шейдтом и безымянной проституткой в горах акт сексуального контакта был простой вещью, доступной пониманию Анимуса. Шейдт предложил деньги за удовольствие и пообещал не причинять девице боли, если та будет выполнять его желания. На самом деле Шейдт нарушил слово: он не отдал монеты и не смог сдержаться, чтобы не сделать ей больно. Унижение девицы, запугивание ее даже после того, как она доказала, что на все согласна, было частью желания клирика. Это было для него так же важно, если даже не важнее, как просто физическое удовлетворение.
Что касалось Евы Савиньен и Рейнхарда Жесснера, действие было то же самое, но значение его совсем другое. Анимус поймал себя на том, что поглощен мыслями Евы, когда она допустила Рейнхарда к своему телу и заставила актера увидеть в ней исполнение его желаний. Она получала от этого удовольствие, неподдельное удовольствие, но преувеличивала его ради Рейнхарда.
Анимус был дилетантом в этих делах и решил руководствоваться взглядами Евы. Контакт принес актрисе удовольствие большее, чем клирику, возможно, потому, что она меньше ожидала от него.
Жесснер охотно пошел проводить Еву домой после спектакля. Она снимала убогую мансарду в театральном районе Альтдорфа, одну из множества таких же в этом месте. Потом у нее будет дом, роскошь, много нарядов. Сейчас ей требовалось просто место для ночлега, когда она не была занята в Театре Варгра Бреугеля. Она приводила сюда и других любовников – своего первого наставника, одного из музыкантов Хуберманна, – но эти связи всегда длились не дольше, чем партнеры оставались полезны для ее работы. В ее комнате не нашлось места ни для религиозных символов, ни для картин. Не считая кровати, главными предметами обстановки были стол, за которым она работала над ролями, полка над ним с грузом копий сценариев пьес из репертуара Театра Варгра Бреугеля, в которых ее роли были подчеркнуты и прокомментированы.
После их дружеского, довольно нежного секса Рейнхард выглядел подавленным. Анимус был озадачен, но Ева все понимала.
Рейнхард, влюбленный в нее, думал о жене и детях. Он сел, скинув с плеч стеганое одеяло, и потянулся к бутылке вина на тумбочке в изголовье кровати. Ева облокотилась на подушку и смотрела, как ее любовник пьет большими глотками. Лунный свет заливал его влажную кожу, делая его бледным, как привидение. Он был весь в синяках после еженощных дуэлей с Детлефом Зирком.
Она крепко обняла его и увлекла обратно, ероша его волосы, успокаивая его дрожь. Она не могла избавить его от чувства вины, но могла не обращать на это внимания. Мозг Евы лихорадочно заработал. Чувственная теплота ушла из ее сердца, она занялась расчетами. Молодая женщина сумела заставить Рейнхарда хотеть ее, но сумеет ли заставить его любить?
Анимус не понимал, в чем разница.
Она размышляла, взвешивая выгоды и последствия своего следующего шага. Анимуса нельзя было застать врасплох, но он отметил, что на мгновение Ева перехватила контроль над их общим сознанием.
Хозяйка осмелилась проявить нетерпение, осмелилась предположить, что его цели второстепенны по отношению к ее собственным.
Ева завоевала Рейнхарда в качестве союзника. На нынешний момент она могла дурачить и шантажировать его в своих интересах, обещая благосклонность и в дальнейшем или под угрозой разоблачения. Но он был бы куда более ярым ее сторонником, если бы любил ее по-настоящему, если бы их связывали нити более прочные, чем вожделение или страх.
Она отыскала в своей душе нечто, заставившее слезы появиться на глазах. Она лежала тихо, не переигрывая, позволяя слезам набегать на глаза и стекать по щекам. Она была напряжена, и создавалось впечатление, что она пытается обуздать свои чувства. Она ждала, чтобы Рейнхард заметил.
Он склонился над ней и коснулся мокрой щеки.
– Ева, – спросил он, – что это?
– Я думала, – ответила она, – думала о твоей жене…
Ее слова были для Рейнхарда как нож в сердце. Анимус ощутил легкий укол боли.
– Какая она, должно быть, счастливая, – продолжала Ева, делая вид, что пытается храбро улыбнуться. – Зрители любят Иллону, она всегда будет популярна. Я знаю, что люди думают обо мне. Нелегко быть такой, какая я есть, и измениться я не могу…
Теперь он утешал ее, забыв про собственные сомнения. Глубоко в душе они были удовлетворены. Анимус ощущал теплоту ее успеха.
– Не плачь, – сказал Рейнхард, – любовь моя…
Теперь он был ее.
– Жени, почему у меня такое чувство, что против меня плетется множество интриг?
Она не знала, что ответить, кроме: «Может, потому, что так оно и есть?», но у нее хватило ума не сказать этого. Было поздно, а они все еще находились в театре, на диване в гримерной Детлефа. Капитан Кляйндест пожелал задать им вопросы насчет убийств Боевого Ястреба, но они решительно ничем не могли ему помочь. Однако под ледяным взглядом капитана знаменитого тем, что он разоблачил Тварь, Женевьева чувствовала себя неуютно. Похоже, это был еще один вампироненавистник.
А его любимая провидица, рыжеволосая молодая женщина по имени Розана Опулс, и вовсе была сбита с толку сложным клубком нерастраченных эмоций и впечатлений, что так и липли к Театру Варгра Бреугеля. Она не выдержала в театре и нескольких минут, и Кляйндест разрешил ей подождать на улице в своем экипаже.
– Они поймают Боевого Ястреба, Детлеф.
– Так же, как поймали Ефимовича? Или революционера Клозовски?
Оба преступника были до сих пор на свободе, в бегах. Империя кишела убийцами и анархистами.
– Может, и не поймают. Но он умрет. Все умирают.
– Все?
Он пронзительно глянул на нее. Она вспомнила похожий взгляд Иллоны Хорвати, когда Женевьева сказала ей, что все стареют.
– Мне тридцать шесть, Жени, и все дают мне на десять-пятнадцать лет больше. Тебе – сколько?..
– Шестьсот шестьдесят восемь.
Он улыбнулся и коснулся ее лица дрожащей, похожей на лапу рукой.
– Люди думают, что ты моя дочь.
Он встал и подошел к зеркалу. Детлеф начинает бояться ее. Плечи его опустились, и, когда он шел по комнате, это была характерная размашистая походка Хайды. Теперь у него всегда был хмурый вид. Он изучал свое лицо в зеркале, примеряя разные выражения, скаля зубы, будто животное.
В глухую полночь Женевьева была наиболее настороженна. Она остро ощущала тьму внутри него, холодный, пронизывающий мрак. Она не была уверена, сам ли театр привел в такое замешательство Розану или причина в Детлефе.
Хотя не было никаких шансов на опознание, Детлеф настоял, чтобы Кляйндест позволил ему взглянуть на труп последней жертвы Боевого Ястреба. Женевьева стояла рядом с ним, когда с лишенного глаз и кожи лица сдернули покрывало из непромокаемой ткани. Мерзкий смрад мертвой крови, для нее все равно что сгнившей, растекся от человека по всей улице. А Детлеф был зачарован, возбужден, его тянуло к этому ужасу. Прорицательница Кляйвдеста, конечно, заметила его нездоровый интерес, и ей это было отвратительно. Женевьева ей сочувствовала.
– Детлеф, – спросила она, – что случилось?
Он типично театральным жестом всплеснул руками. Так он заставлял людей в последних рядах партера считать, будто они знают, о чем он думает.
Но те, кто ближе, те, кто близок настолько, как Женевьева, могли разглядеть обман. Маска прилегала неплотно, и она смогла мельком увидеть кое-что под ней. Нечто, до ужаса напоминающее мистера Хайду.
– Иногда, – сказал он, борясь с чем-то внутри себя, – я думаю о Дракенфелсе…
Она взяла его ладонь в свою, обхватила ее сильными пальцами. Она тоже помнила замок в Серых горах. Она побывала там еще до Детлефа.
На самом деле она больше страдала в этих стенах, больше потеряла, чем он.
– Может, лучше было бы, если бы нас убили, – сказал он. – Тогда мы были бы привидениями. И нам не пришлось бы терпеть все это.
Женевьева держала его в объятиях и гадала, когда же она перестала понимать, что происходит в нем. Вдруг он оживился:
– Думаю, я нашел тему для моей следующей пьесы. И Ева сможет там блеснуть так, что все ахнут.
– Комедия, – с надеждой предположила она. – Что-нибудь легкое?
Он проигнорировал ее.
– Не написано ничего выдающегося о царице Каттарине.
Это имя словно проскрежетало по позвоночнику Женевьевы.
– Как ты думаешь, – улыбаясь, говорил Детлеф, – Ева в роли императрицы-вампира? Ты могла бы быть техническим консультантом.
Женевьева неопределенно кивнула.
– Получился бы славный спектакль ужасов в продолжение «Зикхилла и Хайды». Каттарина, как я понимаю, была сущим дьяволом.
– Я знала ее.
Детлеф изумился было, потом отмахнулся:
– Конечно, ты должна была. Мне и в голову не приходило.
Женевьева помнила царицу. Их знакомство было частью той ее жизни, которую она предпочитала вспоминать не очень часто. Слишком много было в те годы крови, слишком много ран, слишком много предательств.
– В некотором смысле мы были сестрами. У нас один темный отец. Мы обе – его потомки.
– Она была?..
Женевьева знала, о чем он спрашивает.
– Чудовищем? Да, в той же мере, как и любой другой.
Он удовлетворенно кивнул.
Женевьева подумала о реках крови, пролитой Каттариной. В ее долгой жизни был не только этот длинный список ужасов. И Женевьева не испытывала ни малейшего желания снова вызывать их в своем воображении. Равно как и ублажать ими жадную до сенсаций и жестокостей публику.
– Достаточно уже кошмаров, Детлеф.
Его голова покоилась у нее на плече, и ей видны были подсохшие корочки на отметинах, которые она оставила на его шее. Ей хотелось ощутить его вкус, и она боялась того, что могло оказаться в его крови, чем она могла бы заразиться от него…
А какую часть своей тьмы получил от нее он? В пьесе о Каттарине собирался ли он сыграть Владислава Дворжецкого, поэта и любовника императрицы? Ева прекрасно подошла бы на роль царицы-чудовища.
Возможно, она слишком спешит осуждать Детлефа. Может быть, душа ее так же темна, как и его навязчивые мысли. Его произведения начали кишеть ужасами и чудовищами лишь с тех пор, как он с нею. Обескровить человека порой означает забрать у него не только кровь. Может, Женевьева куда более истинная темная сестра Каттарины Великой, чем ей хотелось бы думать.
– Кошмаров никогда не бывает достаточно, Жени, – пробормотал он.
Она поцеловала Детлефа в шею, не прокусывая кожу. Он был измучен, но не спал. Они долго сидели обнявшись, не двигаясь, не разговаривая. Подходил к концу еще один день.
14
Демон Потайных Ходов слышал, как прошлой ночью Детлеф и Женевьева говорили о нем. Поппа Фриц вспоминал о временах, когда он еще не начал меняться.
О временах, когда он был Бруно Малвоизином.
Тот драматург, каким он некогда был, казался теперь кем-то чужим, ролью, которую он исполнял в своем человечьем обличье.
В проходе за репетиционным залом, откуда он мог наблюдать за работой труппы, он распростер свои самые крупные щупальца во всю их длину. Обычно он кутался в плащ и высоко поднимал центр тяжести, воображая, будто ниже груди у него живот и две человеческие ноги. Сегодня он позволил себе развалиться в естественной позе: шесть щупалец, раскинувшихся, подобно плавающим листьям кувшинки, ком остальных его наружных органов и крепкие пластины клюва, защищенные кожистым покрывалом его тела.
От Малвоизина осталось слишком мало.
В репетиционной Детлеф давал указания актерам труппы. Этим утром их у него было немного, его мысли, скорее, занимал водоворот событий вокруг пьесы, чем то, что относилось непосредственно к игре.
Демона Потайных Ходов озадачивала Ева.
Его протеже, как обычно, сидела в сторонке, Рейнхард с нерешительным видом топтался здесь же, пытаясь оказывать преувеличенные знаки внимания Иллоне. Ева была спокойна и владела собой, не то что прошлой ночью. Казалось, будто она никогда не видела его истинного облика. А может, нашла в себе силы принять то, что увидела? Как бы то ни было, этим утром ее не интересовал монстр, с которым она встретилась вчера.
Несколько девушек-статисток щебетали об убийстве возле театра. Демон Потайных Ходов ничего об этом не знал, разве только то, что со временем в этом все равно обвинят его.
В бытность Малвоизином он писал о зле, о том, каким притягательным оно может быть, каким заманчивым может показаться его путь. Когда он начал меняться, то думал, что стал жертвой, поддавшись соблазнам Салли, как Диого Бризак из «Совращения Слаанеши» стал жертвой своих собственных тайных демонов. Потом, уже отойдя от человеческого образа мышления, он начал понимать, что, когда его облик изменился, зла в нем стало не больше, чем прежде.
В определенном смысле эта мутация сделала его свободным. Наверно, Тзинч решил таким образом позабавиться за его счет, чтобы он смог полностью осознать свою человеческую природу лишь тогда, когда его человеческий облик растворился в студенистой кальмарообразной плоти. И все же он понимал, что у других варп-камень уродовал душу не меньше, чем тело.
Глядя на Женевьеву, которая, в свою очередь, как-то особенно внимательно наблюдала за Детлефом, Демон Потайных Ходов гадал, уж не угодил ли осколок варп-камня и в его протеже.
Ева Савиньен изменилась и продолжала меняться.
Он позволил актерам прерваться на обед и сказал, что они могут не возвращаться до вечернего представления. «Странная история доктора Зикхилла и мистера Хайды» теперь уже зажила сама по себе, и Детлеф почти готов был, если чего-нибудь опять не случится, оставить спектакль в покое. Долго живущие спектакли развиваются сами по себе, находя способы оставаться живыми. Он был даже благодарен Еве Савиньен, нежданно блистательная игра которой вынуждала всех членов труппы тоже совершенствоваться самым неожиданным образом.
Иллона, например, предложила попробоваться в роли трагических героинь, поскольку она вступила в возраст императрицы Магритты или жены Оттокара.
Женевьеву он отыскал в комнатке Поппы Фрица, среди развернутых карт, прижатых по углам книгами и всякими мелкими безделушками. Вместе с привратником и Гуглиэльмо они пытались разобраться в схемах туннелей под театром.
– Итак, – говорила она, – все согласны? Это ловко устроенный ложный ход, чтобы его отыскали враги беглецов.
Оба пожилых человека кивнули.
– Он слишком явно помечен, – сказал Гуглиэльмо. – Очевидно, он устроен таким образом, чтобы воспользовавшийся им безнадежно заблудился. Может, даже чтобы завести врагов в ловушки.
– О чем это вы тут шепчетесь, конспираторы? – поинтересовался Детлеф. – Готовите заговор в поддержку революционной борьбы принца Клозовски?
– Я собираюсь попробовать найти его, – ответила Женевьева.
На ней была одежда, которой Детлеф не видел уже многие годы. В Альтдорфе она обычно ходила в неброских, но элегантных нарядах: белые шелка и украшенные вышивкой катайские платья. Теперь она надела кожаную охотничью куртку и сапоги, плотные узкие матерчатые штаны и мужскую рубаху. Она выглядела как переодевшаяся своим братом-близнецом Виолетта из пьесы Таррадаша «Восьмая ночь».
– Его?
– Малвоизина.
– Демона Потайных Ходов, – объяснил Поппа Фриц. В сумраке старик и сам был похож на мятый пергамент.
– Жени, зачем?
– Я думаю, он страдает.
– Весь мир страдает.
– Целому миру я помочь ничем не могу.
– А чем ты можешь помочь этому существу, даже если это Бруно Малвоизин?
– Поговорить с ним, узнать, может, ему что-нибудь нужно. Я думаю, он не меньше Евы был напуган случившимся.
Поппа Фриц скатал фальшивую карту и засунул ее в тубус, кашляя от вылетевшей из него пыли.
– Он стал одним из измененных, Жени. Его разум, должно быть, угас. Он может быть опасен.
– Как был опасен Варгр, Детлеф?
Варгр Бреугель был у Детлефа помощником и вторым режиссером. Карлик, родившийся от нормальных родителей, он был рядом с актером-драматургом-режиссером с самого начала его карьеры. В конце концов, оказалось, что он – одно из измененных созданий Хаоса, и он предпочел покончить с собой, чем позволить глупцу пытать себя.
– Как ты был опасен?
Детлеф родился с шестью пальцами на одной из ног. Его папаша-торговец излечил сынишку от этого дефекта еще в младенчестве при помощи мясницкого ножа.
– Как опасна я?
Она широко ощерила рот с острыми зубами, выпустила когти и спрятала снова.
– Ты не хуже меня знаешь, что порой варп-камень превращает человека в монстра лишь снаружи.
– Прекрасно, но возьми с собой несколько наших охранников.
Женевьева рассмеялась и смяла подсвечник, превратив его в комок рваного металла.
– Мне бы только пришлось присматривать за ними, Детлеф.
– Это твоя жизнь, Жени, – устало сказал он. – Делай с ней, что хочешь.
– Конечно. Поппа Фриц, я войду здесь, – она легонько хлопнула по карте, – из партера. Надо вскрыть эту древнюю потайную дверь.
– Жени. – Он положил руку ей на плечо. Порой сущее дитя, она была одновременно древней.
Она быстро поцеловала его.
– Я буду осторожна, – сказала она.
Рейнхард Жесснер знал, что ведет себя как дурак, но ничего не мог с собой поделать. Он понимал, что заставляет страдать Иллону и их близнецов, Эржбет и Руди тоже. В конце концов, больше всех страдал он сам.
Но Ева – это нечто особенное.
Она растеклась по его крови, словно змеиный яд, который уже не высосешь просто так из раны. С самой премьеры «Доктора Зикхилла и мистера Хайды» отрава расползалась по его венам. Он понял это еще на вечеринке после спектакля. Оба они все это время готовы были сделать первый шаг. Сделала его она, но это с легкостью мог быть и он.
Он чувствовал, что физически слабеет вдали от нее, не может думать ни о чем и ни о ком другом. А когда он был с ней, приходила другая боль, гложущее чувство вины, отвращение к себе, осознание собственной глупости.
Чем сильнее он любил Еву, тем тверже был уверен, что девушка его бросит. Он ничего больше не мог дать ей. Он – всего лишь камень, чтобы перейти ручей, и камень, наполовину погруженный в поток. Впереди ее ждут более крупные, более надежные камни. Ева продолжит свой путь по ним.
Они умудрялись урвать несколько часов после полудня, улизнув из театра, чтобы заняться любовью в жаркой темноте за занавесками ее мансарды. Ей всегда удавалось опередить и измучить его, и она засыпала безмятежным сном, в то время как он, обессилевший, лежал, прижавшись к ней, на узкой кровати, а в голове его теснилось множество мыслей, и на душе было неспокойно.
Такое случалось с ним не впервые, но на этот раз все было гораздо хуже. Прежде Иллона знала, но могла с этим мириться. Другие девушки не задерживались, не могли завладеть им надолго.
Ему даже порой казалось, что Иллона поощряет его измены и что после них их отношения становятся куда лучше, чем до. Театральные браки были делом непростым и обычно обреченным на неудачу. Маленькие развлечения давали им силу продолжать жить вместе.
Теперь Иллона была все время в слезах. Дома близнецы вечно воевали и чего-то требовали. Он проводил там как можно меньше времени, предпочитая быть с Евой или в гимнастическом зале на Храмовой улице, занимаясь фехтованием или поднимая тяжести.
Ева заворочалась рядом с ним, и одеяло соскользнуло с ее лица. Через суровую ткань занавесок внутрь просеивался дневной свет, и Рейнхард взглянул на девушку.
И застыл, словно от ледяного поцелуя.
Ева во сне выглядела странно, как будто поверх ее лица застыл слой тонкого стекла. Рейнхард словно уловил странные блики на его поверхности.
Он дотронулся до ее щеки, твердой, как у статуи.
Там, где кожи коснулись кончики его пальцев, она менялась, становилась податливой, теплой. Глаза Евы открылись, и она с неожиданной силой перехватила его запястье.
Сейчас он по-настоящему боялся ее.
Ева села, отодвинув его к оштукатуренной стене, прижалась к нему теплым телом. Лицо ее было лишено всякого выражения.
– Рейнхард, – сказала она, – ты должен кое-что для меня сделать…
15
Лабиринт здесь выглядел по-другому. В то время как проходы за гримерными были тесными, эти оказались едва ли не просторными, подземными аналогами главных улиц. Сюда из наземного мира занесло самые странные вещи. Один коридор был выложен задниками из разных постановок, пригнанными вплотную друг к другу, так что горный пейзаж сменялся диким Драклендским лесом, дальше шли оштукатуренные стены крепости с нарисованными кровавыми пятнами, за ними вздыбленный штормом морской пейзаж на пружинах, чтобы можно было раскачивать позади бутафорского корабля, потом усеянные трупами Пустоши Хаоса. Женевьева пыталась вспомнить, какие пьесы шли с каждым из этих задников.
Она чувствовала, что добыча рядом. Слегка ощущался запах 7-й ложи, а ее обоняние было лучше, чем у настоящих людей. На некоторых из рисованных декораций остались засохшие пятна слизи, показывающие, что Демон Потайных Ходов пользовался этой дорогой. Она раздумывала, не позвать ли его, или же это заставит Малвоизина забиться в убежище еще глубже.
Проведя, так или иначе, значительную часть своих лет взаперти, она могла представить себе, что за жизнь вел здесь Демон Потайных Ходов. Чего она представить не могла, так это чтобы он искал общения с другими формами жизни. Люди едва терпели ее и с неизменной неприязнью относились к тем из ее сородичей, кто умел менять облик. Нельзя сказать, чтобы их осторожность была необоснованной, но в то же время это было и не вполне справедливо.
Проход под углом пошел вниз и закончился занавешенным помещением. Она поискала потайную дверь и нашла ее, замаскированную под крышку большой бочки.
Изначально в туннеле для людей имелась лестница, но ее по большей части разломали, заменив целым множеством выступов, при виде которых Женевьева начала предполагать, как должен выглядеть Малвоизин. Здесь очень сильно пахло, из глубин тянуло ароматами тухлой рыбы и соленой воды.
Пока что она оставила туннель в покое, вернув крышку бочки на прежнее место. Сегодня она собиралась осмотреть только верхние уровни. Она подозревала, что Малвоизин может болтаться где-то возле поверхности. Она отыскала множество его смотровых глазков и позабавилась видом личных комнат, в которые они позволяли заглянуть.
Демон Потайных Ходов явно заглушал боль одиночества, интересуясь жизнью труппы Театра памяти Варгра Бреугеля.
Она гадала, как много моментов из ее личной жизни стали ему известны. Через глазок, в который можно было подсматривать, стоя на бочке, она сумела заглянуть на склад, где среди запылившихся стоек с париками и жестянок с пудрой она однажды интимно пила кровь Детлефа.
Красная жажда одолела ее во время вечеринки, и она утащила своего возлюбленного в этот позабытый уголок театра, полным ртом прикусывая его тело, нежно прокалывая напрягшуюся кожу, жадно насыщаясь до тех пор, пока он опасно не ослабел. На его теле появилось полдюжины новых ран. Следили ли за ее сладострастным обжорством глаза, бывшие некогда человеческими?
Вернувшись к последнему пересечению горизонтальных ходов, она обследовала новое ответвление. Где-то рядом послышались звуки, будто кто-то торопливо уползал прочь, и она кинулась в ту сторону, ее ночное видение позволяло ей не налетать на стены. Она не окликала его. Впереди быстро двигалось что-то большое.
Звуки удалялись, и она последовала за ними, завернув за угол. Здесь воздух был неподвижен, и она предположила, что это замкнутое пространство. Она уперлась в стену и остановилась. Теперь она больше ничего не слышала. Оглядываясь, она поняла, что ее одурачили. Малвоизина не зря называли Демоном Потайных Ходов. Каким-то образом он проскочил сквозь стены, потолок или пол и ускользнул от нее.
Однако она хитра. И у нее есть время.
Анимус позволил Еве отвести себя в театр, с Рейнхардом на поводке, словно тот был свиньей, которую ведут за медное кольцо в носу. От Евы Анимус узнал, что просто уничтожить Детлефа и Женевьеву для его цели недостаточно. Прежде чем они умрут, их надо разлучить, надо, чтобы узы, сковавшие их воедино в крепости Дракенфелс, распались. Тогда они умрут, зная, что от их победы не осталось ничего. Анимус был благодарен за это новое знание, поняв наконец, что не был готов исполнить приказание повелителя, пока не воссоединился со своей теперешней хозяйкой. Великий Чародей, должно быть, предвидел это, когда создавал Анимуса, сознавая, что его творение не будет завершенным, пока не станет отчасти человеком.
Он собирал вокруг себя нужные инструменты. Ева, конечно, это ключ, но и другие – Рейнхард, Иллона, Демон Потайных Ходов, даже сами Детлеф и Женевьева – должны будут сыграть свою роль. Для Евы Анимус был точно как Детлеф, придумавший спектакль и потом руководящий труппой на всех его этапах. Анимус был даже польщен таким сравнением. Созданный как холодный интеллект, он не питал злобы к вампирше и комедианту. Он просто знал, что его задача – уничтожить их. От Евы он научился весьма ценить заслуги Детлефа Зирка как театрального деятеля.
Ева оставила Рейнхарда в гимнастическом зале на Храмовой улице, где он обычно упражнялся после полудня. Она знала, что, когда понадобится, он придет. У хозяйки была собственная цель, отличная от цели Анимуса.
На какое-то время их устремления тесно переплелись. В случае же конфликта каждый был уверен, что он победит другого.
Анимус позволил Еве продолжать думать, что ситуацию контролирует она.
Перед театром волновались три не смешивающиеся друг с другом толпы. Самую большую, составляла буйная очередь в кассу из желающих приобрести билеты на «Странную историю доктора Зикхилла и мистера Хайды». В ней, выискивая жертвы, сновали несколько всем известных спекулянтов, заламывающих немыслимые цены за настоящие билеты и просивших несколько более разумные суммы за плохие подделки, которые никогда не прошли бы через контроль билетеров Гуглиэльмо Пентангели. Конкуренцию жаждущим стать зрителями составляла шеренга размахивающих плакатами демонстрантов, по большей части хорошо одетых матрон и тощих юнцов в поношенных одеждах, протестующих против спектакля.
Один из плакатов представлял собой красочно изображенного Детлефа в роли Хайды, в виде гиганта, попирающего тела убитых горожан Альтдорфа. С момента смерти прежнего хозяина Анимуса протесты возросли четырехкратно.
По мере приближения Евы активизировалась третья толпа. К этим она уже начала привыкать. Здесь были ливрейные лакеи с цветами, подарками и официальными приглашениями и хорошо одетые молодые люди, страстно жаждущие вручить свои послания лично. Помимо романтических признаний Еву Савиньен ежедневно донимали профессиональными предложениями из всех уголков Империи и даже из Бретонии и Кислева. Не могло быть сомнений: молодая актриса стала любимицей Альтдорфа.
Благосклонно принимая цветы, приглашения и письма, Ева прошла сквозь толпу, вежливо отстраняя наиболее назойливых поклонников. Проскользнув через главный вход, она немедленно сгрузила свою добычу на руки Поппе Фрицу, зашатавшемуся под ее тяжестью. С письмами она разберется позже.
– Тебе пора начинать отсылать цветы в Приют Шаллии, – сказал чей-то голос.
Это была Иллона. Ева обернулась, плотно сжав губы, досадуя на эту возникшую в ее мозгу помеху. Ей не хотелось, чтобы ее отвлекали сейчас.
– Именно так я поступала в прошлом веке, когда была на твоем месте. Цветы вытесняют тебя из гримерной, и от них никакой пользы. По крайней мере, часть их можно отослать пациентам госпиталя.
– Хорошая мысль, – согласилась Ева. – Спасибо, Иллона.
– Нам надо поговорить, Ева, – сказала старшая женщина.
– Не теперь.
Иллона жестко, пронизывающе смотрела на Еву. Как будто знала что-то, видела что-то. Анимус понимал, что это невозможно. Пока невозможно.
– Берегись, Ева. Ты выбрала опасный путь. Со множеством шквалов и мелей, скал и водоворотов.
Ева пожала плечами. Это было так утомительно. Иллона удерживала ее взглядом, между ними словно натянулась прочная цепь.
– Знаешь, мне ведь тоже когда-то было столько, сколько тебе.
– Естественно. Как большинству людей.
– А тебе однажды будет столько, сколько мне сейчас.
– Если богам будет угодно, да.
– Это верно. Если богам будет угодно.
Цепь между ними разорвалась, и Ева слегка поклонилась.
– Это все очень поучительно, – произнесла она. – Но прошу меня простить…
Она оставила Иллону в фойе и отправилась искать Детлефа. Анимус ощутил, что его цель близка.
16
Вампирша вторглась в его мир. Демон Потайных Ходов еще не понял, как он к этому относится. Он так долго был одинок. Одинок, не считая Евы. А теперь она для него потеряна.
Из-под потолка, где можно было уцепиться за вырезанные им в стене опоры, он искоса наблюдал за Женевьевой, осторожно пробирающейся по главному проходу.
Демон Потайных Ходов знал, что Женевьева Дьедонне была актрисой. Один раз. Он восхищался ее мужеством и осторожностью. В лабиринте имелись свои опасности, но она мастерски избегала их.
Она привыкла рыскать по коридорам во мраке. Рано или поздно ее вспыхивающие красным светом глаза отыщут его.
Сердце его застучало под защитным покровом тьмы.
Когда-то Бруно Малвоизин любил актрису Салли Спаак. Нет, не актрису, а куртизанку, которой сцена нужна была для пущей респектабельности. Она радовалась своей популярности, когда толпы собирались скорее поглазеть на нее, чем увидеть спектакль. Салли была возлюбленной принца Николя, младшего брата тогдашнего Императора. Судьба театра зависела от чувств покровителя к своей даме, сменявших друг друга, как приливы и отливы.
Женевьева напоминала Демону Потайных Ходов давно умершую искусительницу. Ева тоже, хотя Салли никогда не была столь талантлива, как последняя протеже Малвоизина.
Когда Салли и императорский братец ссорились, против театра принимались законы, а у дверей вставали на страже алебардщики. А когда ей удавалось угодить Николю, подарки и милости так и сыпались на всю труппу.
Салли покорила Бруно Малвоизина, как покорила многих других. Она наслаждалась страхом, воцарявшимся всякий раз, как она меняла одного фаворита на другого. Это была не самая лучшая идея – спать с подругой Николя из Дома Вильгельма Второго. Принц открыто дрался на дуэлях и отправил на тот свет нескольких поклонников Салли, и Малвоизин понимал, что тот, кто выиграет дуэль у принца Николя, тоже долго не проживет.
Женевьева посмотрела вверх, и Демон Потайных Ходов поглубже укрылся в облако созданного им мрака. Она, похоже, не увидела его. Он не мог бы сказать, разочарован ли, хотел бы он быть найденным или нет.
За прекрасным личиком Салли таилась страшная порочность. И Малвоизин заразился от нее. Подобно Женевьеве – даже подобно Еве, – она была не вполне человеком. Принц Николь, в конце концов, покончил с собой, после того как его заманили участвовать в богохульственном ритуале объявленного вне закона культа Тзинча, а Салли толпа изгнала из города. К тому времени Малвоизин уже пробирался исключительно по окольным улочкам, кутаясь в плотный плащ в тщетной попытке скрыть все более и более заметные изменения в себе. Ночами он исписывал горы бумаги, слова лились из него, он будто знал, что за оставшиеся недели должен выплеснуть из себя все, что было рассчитано на целую жизнь. В тот день, когда от его разбухшей головы отвалился нос, он ушел под землю.
Покачивая головой, Женевьева двинулась дальше по проходу. В конце концов, она разгадает все тайны лабиринта. И тогда Демону Потайных Ходов придется что-то решать.
Салли верила в варп-камень, как пристрастившийся к дурман-траве человек верит в свое зелье. За бешеные деньги она добывала всякие ужасные компоненты и подмешивала в пищу и себе, и своим любовникам. Малвоизин был не единственным, кто изменился. На принце, когда его нашли повесившимся на мосту Трех Колоколов, тоже обнаружили знаки.
Однако Малвоизин был единственным, кто выжил.
Салли тайно веровала в Тзинча, ей доставляло наслаждение сеять вокруг себя порчу. Она была избранным орудием бога Хаоса, и она расправилась с Бруно. В «Совращении Слаанеши» он осмелился показать на сцене то, что никогда не предназначалось для человеческой публики. Его прегрешение было замечено Тьмой и привело в действие силы, от которых не было спасения.
Когда Женевьева прошла мимо, Демон Потайных Ходов позволил себе спуститься с потолка и устроился на мощенном плитами полу. Он дотянулся щупальцами до двух поворачивающихся камней в стене – разнесенных достаточно далеко один от другого, чтобы ни один нормальный человек не сумел достать оба сразу, – и беззвучно проскользнул в появившуюся в полу щель.
Он преодолел несколько этажей и погрузился в утешительную прохладу черных вод под театром.
Детлеф сидел один на сцене, в кресле доктора Зикхилла. Среди реторт и котлов стоял на подставке фонарь, но все остальное обширное пространство тонуло во тьме. Он уставился в пустую темноту, в уме представляя точные размеры зала. Смутно он видел бархат дорогих кресел. Может, он на этом островке света один в целом здании, один во всей вселенной.
Все еще опустошенный после вчерашней ночи, он не был уверен, хватит ли у него сил на сегодняшний спектакль. Но они всегда находились в самый последний момент. По крайней мере, так было до сих пор. Следы укусов на шее зудели, и он подумал, уж не попала ли в них инфекция. Может, им с Женевьевой стоило бы некоторое время держаться подальше друг от друга.
Их последняя совместная ночь после премьеры оказалась более кровавой, чем обычно. Красная жажда обуревала его подругу. Не раз на протяжении этих лет он страшился того, что не переживет их любви. Ни человек, ни вампир не в силах сохранять самоконтроль в пылу страсти. В этом-то, считал он, и состоит самый смысл страсти. Если Женевьева поранит его слишком сильно, то, как он предполагал, может почувствовать себя обязанной дать ему напиться своей крови, чтобы он, став ее темным сыном, обманул смерть и сам стал вампиром.
Такая перспектива, о которой они оба знали, но никогда не обсуждали ее, волновала и пугала Детлефа. Вампирские супружеские пары славились дурной репутацией даже в среде вампиров.
Театр в это полуденное время заснул, в нем не было ни актеров, ни публики. Подобно Женевьеве, Театр Варгра Бреугеля по-настоящему оживал лишь с приходом ночи.
Женевьева сделалась вампиром едва ли не ребенком, еще до того, как сформировалась ее личность; Детлеф, если до этого дойдет, будет в момент превращения вполне зрелым человеком.
«Вампиры не могут иметь детей, – сказала ему как-то его возлюбленная, – не могут обычным путем. И мы не пишем пьес». Это была правда: Детлеф не мог припомнить ни одного случая, чтобы кто-нибудь из нежити внес существенный вклад в искусство – или во что бы то ни было другое, за исключением массовых кровопролитий. Жить, может быть, вечно – заманчивая и интригующая перспектива, но холод, которым от нее веяло, пугал его.
Холод, который мог породить Каттарину.
Вампирские пары были худшим злом, с каждым проходящим столетием они становились более зависимыми друг от друга, более высокомерными по отношению к остальному миру, более бесчувственными, более жестокими. Каждый из них становился единственной реальной вещью в мире партнера. Женевьева говорила, что в конечном счете они превращались в единое существо о двух телах, – в обезумевшего алчущего зверя, которого надо останавливать серебром и боярышниковыми кольями.
Чья-то рука коснулась его шеи и скользнула по горлу, легко, словно котенок лапкой. Сердце его замерло, Детлеф решил, что это Демон Потайных Ходов, рассерженный вторжением Женевьевы в свое логово, явился наложить на него смертоносные щупальца.
Детлеф обернулся и в свете фонаря увидел лицо Евы, похожий на маску овал, расслабленный, затертый и лишенный выражения, как барельеф на долго бывшей в обращении монете.
Ее прикосновение показалось ему странным – ни теплым, ни холодным.
Ева улыбнулась, и лицо ее ожило. В конце концов, она была на сцене. Детлеф пытался угадать, какую роль она играет.
Поднимая руку – и его голову вместе с ней, – она заставила его встать. Ева была достаточно высокой, чтобы смотреть ему в глаза. Достаточно высокой – как Иллона и многие другие, и в отличие от Женевьевы, – тобы играть с ним любовные сцены, которые хорошо смотрелись бы из самой дальней ложи театра. Он ожидал поцелуя, но ожидание затягивалось.
Женевьева карабкалась наверх по странному хитросплетению лестниц и трапов, которые, как она понимала, должны находиться в толще стены Театра Варгра Бреугеля. Сложная система балок и брусьев поддерживала тончайшую каменную оболочку. По ее расчетам, она должна была вылезти на поверхность где-нибудь в районе крыши, между огромными комической и трагической масками, вырезанными из камня на фронтоне.
Может быть, смеющийся и плачущий рты или глаза и служили входами.
Она добралась до потайной двери, покрытой толстым слоем подсохшей слизи, свидетельства того, что ходом часто пользовались. Едва она коснулась люка, ее озарила одна из нечастых вспышек предчувствия. Вместе с темным поцелуем Шанданьяк передал ей частицу дара провидения. Сейчас она знала, что, если откроет эту дверь, тайна будет разгадана, но разгадка ей не понравится. Ее рука замерла на крышке люка, и она сознавала, что, если оставит дверь закрытой, ее жизнь будет продолжаться так же, как и прежде. Если откроет, все изменится. Снова.
Она стиснула пальцы в кулак и прижала к груди. В замкнутом пространстве ее дыхание казалось до странного громким. В отличие от Истинно Мертвых вампиров, она продолжала дышать. Это делало ее почти человеком. И ее любопытство, ее потребность знать – тоже.
Открывая крышку и протискиваясь в люк, она мельком подумала, что, возможно, была бы счастливее, если бы ее темный отец убил ее, прежде чем сделать вампиром. Тогда она была бы совершенно отделена от живых. Была бы свободна от проблем, которые терзают ее сердце.
Запах 7-й ложи ощущался здесь сильнее, чем где-либо во всем лабиринте. И не удивительно, ибо это и была 7-я ложа.
За занавесями ложи виднелся свет. Должно быть, внизу на сцене. Она потянулась, разминая занемевшие руки и ноги. Потом раздвинула занавеси.
На сцене Детлеф репетировал с Евой.
Это, должно быть, была финальная сцена третьего действия, в которой Нита обращается к Зикхиллу за помощью, не зная, что этот добрый человек, предложивший ей свою защиту, на самом деле ее ужасный мучитель. Бедная девушка пытается уговорить Зикхилла дать ей денег, трогательно заигрывая с ним, но он, возбудившись, превращается в Хайду, швыряет ее на диван в кабинете Зикхилла, предоставляя публике домысливать дальнейшее и в высшей степени непристойное продолжение в перерыве между действиями.
Глядя, как они целуются, Женевьева ждала превращения. Оно произошло, но не так, как она предполагала.
17
Анимус прижимался к лицу Детлефа Зирка, вбирая в себя его смущение, его желание, его боль. И разрастающуюся в нем раковую опухоль Тьмы. Именно до Тьмы и требовалось добраться Анимусу. Было бы несложно заставить Еву просто совратить его, как она сделала это с Рейнхардом Жесснером. Но какой в этом смысл? Секс – не та вещь, которая способна оторвать Детлефа от Женевьевы. Это могут сделать Тьма, Хайда внутри Зикхилла, деградация, проявление подавляемых животных инстинктов.
Ева с силой обхватила Детлефа за шею, прижимая к себе во время поцелуя, едва не придушив его.
– Ударь меня, – шепнула она.
етлеф застыл в ее объятиях.
– Нет, – говорила она. – Мне это нужно, я этого хочу…
Она цитировала текст «Странной истории доктора Зикхилла и мистера Хайды» почти точно, но не совсем. Предполагалось, что Ниту столько били, что у нее воз-икла извращенная тяга к боли. А Нита была в той же мере порождением разума и пера Детлефа Зиркза как и игры Евы Савиньен. Он написал о том, как упоительно причинять и ощущать боль, и Анимус знал, что он отыскал эти чувства в себе и выплеснул на сцену. Этот опыт окажется гибельным для него, как неумелые опыты Зикхилла привели его, в конце концов, к краху.
Хватка Евы становилась все сильнее, костяшки ее больших пальцев зарылись в мягкий второй подбородок Детлефа.
– Ударь меня, – повторяла она, усыпая поцелуями его лицо, – сильнее.
Его глаза блеснули, и Анимус увидел в них, что этот призыв проник в самую глубь его души, вытаскивая на поверхность желание причинять боль, которое всегда присуще гению. Отчасти благодаря этому качеству он обрел поразительную силу, понадобившуюся, чтобы сокрушить Вечного Чародея. Потому-то его и тянуло к девушке-вампиру.
Часть Детлефа Зирка жаждала боли, крови, зла. Это чувство было настолько близко к любви, что порой они казались неотличимыми.
Ева сняла одну руку с шеи Детлефа и, растопырив пальцы на манер когтей, попыталась вцепиться драматургу в лицо.
Он отбросил ее руку.
Его лицо было маской гнева, черты в точности соответствовали рекомендуемому в учебниках по актерскому мастерству проявлению ярости, изображая чувство, которое он не вполне испытывал. Детлеф схватил руку, сжимавшую его горло, и оторвал ее от себя. Он ударил Еву, с силой смазав костяшками пальцев по щеке, поставив ей настоящий синяк.
Анимус был доволен.
Ева дразнила Детлефа, льстя и оскорбляя, моля и провоцируя. Она призывала наказать ее, искушала его сделаться Хайдой.
Она дала ему пощечину, и он ударил ее в грудь. Благодаря Анимусу она не чувствовала боли, но была достаточно хорошей актрисой, чтобы убедительно изобразить ее.
В пылу борьбы их одежда растрепалась и кое-где порвалась. Между ударами они обменивались быстрыми ласками.
Ева схватила со стола бутафорскую реторту и разбила о свою голову. Стекло было из сахара, но клейкие осколки прилипли к ее лицу, кололи и раздражали их кожу во время поцелуев. Они расцарапывали друг друга, оставляя на лицах кровавые полосы.
Детлеф с силой ударил ее в живот. Она согнулась пополам, и он швырнул ее на диван Зикхилла.
Здесь был занавес третьего действия.
Еву кольнуло сомнение, но Анимус стер его. Все шло замечательно. Детлеф рвал на ней одежду, превращая ее изящное платье в подобие лохмотьев Ниты.
Детлеф навалился на Еву, а занавеса все не было.
Женевьева оцепенела от ужаса, по жилам побежал огонь. Ее клыки выскользнули из десен. Ногти превратились в когти, твердые, как алмазы. То, что она увидела на. сцене, заставило ее жаждать крови.
Она не понимала той неестественной любовной сцены, что разыгрывалась сейчас внизу, но ненавидела себя за то, что возбудилась при виде нее до красной жажды. То, что проявилось сейчас в Детлефе, было в нем всегда, это она знала. Возможно, это не большее извращение, чем их собственная любовь, объятия вампира и человека, которые всегда приводили если не к причинению боли, то к кровопролитию. Но здесь Ева руководила Детле-ом, искушала его, как мистер Хайда искушал в финале Соню Зикхилл, желая пробудить чудовище и в ней тоже.
Она стояла в 7-й ложе, среди мерзкого зловония, и, застыв, смотрела вниз. Ей подумалось, что она самый настоящий вампир. Ничего не может сделать, но вечно наблюдает, дожидаясь объедков со стола.
Потом с головокружительной ясностью ее вновь посетило озарение, предвидение прорицателя, которое изменило все.
Это не интимная сцена, которую ей посчастливилось подсмотреть. Это кукольный театр. Где-то как-то кто-то дергает за веревочки, заставляя Еву и Детлефа отплясывать непристойный танец, поставленный, хотя бы отчасти, для нее. То, что проделывали на сцене ее любовник и актриса, выглядело убедительнее, чем должно было быть. Они играли, изображая преувеличенно страстные занятия любовью, чтобы было понятно всем в зале.
Испуганная, Женевьева огляделась. Где-то здесь был драматург, режиссер. Разыгрывалась драма, в которой и у нее тоже своя роль.
Снова все вышло из-под ее контроля.
В гимнастическом зале на Храмовой улице Рейнхард Жесснер делал отжимания – спина крепкая, как стальной прут, мощные руки работают, как рукояти насоса. Носом он снова и снова касался дощатого пола. Мысли в голове неслись с такой скоростью, что ему просто требовалось изнурять тело, чтобы остановить их.
Арне по прозвищу Тело, его инструктор, советовал ему не спешить так, но он не мог. С тех пор как он стал актером, он заботился о своем теле, своем рабочем инструменте. Если бы отбросить прочь сценарий, он расправился бы с Детлефом Зирком в финале «Доктора Зикхилла и мистера Хайды» и даже не смахнул бы пот со лба.
Теперь он размахивал тяжелыми гирями, чувствуя, как горят плечи и локти.
Ева. Это все ее вина.
Он рискует потерять все. Семью, карьеру, самоуважение. И все это ради Евы, которая уже готова бросить его, положив глаз на Детлефа.
Он размеренно поднимал вес, играя мускулами на руках и шее, сцепив зубы. Его грудь и спина покрылись потом, и он чувствовал, как из-под коротко стриженных волос и бороды стекают струйки.
«Что ж, удачи Еве и Детлефу», – подумал он.
Если бы не Детлеф, Рейнхард сам стал бы ведущим актером. На него, безусловно, обращают больше внимания по мере того, как актер-режиссер становится все дряблее и капризнее. Особенно если сценарий дает ему возможность скинуть рубашку. Может, ему стоило бы забрать Иллону и создать собственную труппу. Возможно, гастролирующую труппу. Там, вдали от грязи большого города, будет меньше славы, меньше аплодисментов, меньше денег. Но, может, их ждет более достойная жизнь.
Ева.
Он должен покончить с этим теперь. Ради Иллоны, ради близнецов. Ради себя самого.
Он опустил гирю и выпрямился. Арне ухмыльнулся ему, и бицепс его надулся, словно свиной пузырь, вены зазмеились под кожей, как толстые черви.
Он должен пойти в театр и покончить с Евой.
Тогда все опять наладится.
18
– Нет, – произнес Детлеф тихо.
Соприкоснувшись с чем-то жутким внутри себя, он теперь старался освободиться, отстраниться от этого, загнать обратно в глубины.
Ева притихла, задержав занесенную для удара руку.
– Что?
– Нет, – повторил он, на этот раз тверже. – Я не стану.
Ему было стыдно самого себя и неловко. Он отступил, пустив руки. Ему не хотелось еще раз коснуться ее.
Ева с яростью уставилась на него и, взвившись с дивана, кинулась к нему, норовя вцепиться в лицо. Он поймал ее запястья и крепко сжал, удерживая ее подальше от себя, отталкивая прочь.
Он разом почувствовал все свои синяки, но и внутреннюю силу тоже. Он устоял перед искушением. Не стал мистером Хайдой.
– Ударь меня, – хрипела Ева.
Что-то было не так с ее лицом, оно словно покрылось слоем тонкого стекла. На губах ее выступила пена, теперь она уже сражалась всерьез. Ее атаки менее всего походили на игру.
– Кто ты? – спросил он.
– Сделай мне больно, бей меня, кусай меня…
Он оттолкнул ее и попятился, мотая головой.
Во тьме захлопали чьи-то ладони, звук пошел гулять, отражаясь от стен зала, превращаясь в гром аплодисментов.
Анимус потерпел неудачу. Он понимал это с кристальной ясностью. Чудовище, сокрытое в Детлефе Зирке, было недостаточно сильным, чтобы полностью овладеть его сердцем. Его можно выставить на позор и осмеяние, но уничтожить таким образом невозможно. В его душе было слишком много всего остального, слишком много света во тьме.
Хозяйка тряслась, потрясенная поражением. Ее полезность почти исчерпала себя. Если Анимус не мог уничтожить душу Детлефа, значит, приходилось довольствоваться тем, чтобы уничтожить его жизнь. Ева прижала ладони к лицу, пытаясь удержать спадающую маску. Едва лишь Анимус покинул ее сознание, она ощутила свою боль, свой стыд, свой гнев.
Ее ладони были мокрыми от слез. Она сжалась, жалея себя, кутаясь в остатки платья. Детлеф был суров и не спешил утешать ее. Она не понимала, что с ней случилось.
Она думала, что Анимус – это благословение, а оказалось – проклятие.
Анимус медленно извлекал свои щупальца из Евы, отделяя себя от каждой частички ее разума и тела, отсекая связь с ее чувствами, отказываясь от контроля над ней.
Осталась лишь цель.
Продолжая аплодировать, Женевьева пыталась выразить свою гордость за Детлефа. Он победил нечто невидимое и отвратительное, как мистер Хайда. Она надеялась, что сумела бы сделать то же самое, но сомневалась в себе.
– Это я, – крикнула она, – Жени!
Детлеф заслонил глаза от света и всмотрелся в темноту. Он ее едва видел. У него не было зрения вампира. Ему вдруг стало неловко.
– Тут что-то не так, – попытался объяснить он. – Мы не виноваты.
Ева тихонько всхлипывала, забытая, покинутая.
– Я знаю. Что-то и теперь здесь, что-то злое.
Она попыталась почувствовать чужое присутствие, но ее провидение ушло. Оно приходило к ней лишь изредка.
– Жени, – окликнул он. – Где…
– Я в седьмой ложе. Тут есть потайной ход.
Она повернулась проверить, открыт ли люк, и увидела, как в него протискивается что-то огромное и влажное.
Она прижала тыльную сторону ладони к открытому, оскаленному рту, но не закричала.
На крик у нее уже не было сил.
– Все в порядке, – попытался сказать Демон Потайных Ходов.
Он сознавал, как выглядит.
Вампирша опустила руку, и ее глаза вспыхнули алым во мраке. Она сглотнула и выпрямилась. Пытаясь не чувствовать отвращения, она не смогла скрыть чувства жалости.
– Бруно Малвоизин?
– Нет, – ответил он, и голос его прозвучал низко и протяжно из-под нависших надо ртом складок плоти. – Уже нет.
Она протянула руку с острыми коготками.
– Я Женевьева, – сказала она. – Женевьева Дьедонне.
Он кивнул так, что задрожала вся массивная шишковатая голова.
– Я знаю.
– Что там происходит?! – прокричал со сцены Детлеф.
– У нас гость, – отозвалась Женевьева через плечо.
Вот и все, вот он и открылся им. Демон Потайных Ходов испытывал странное облегчение:.Будет больно, но теперь ему не нужно больше прятаться.
Поппа Фриц похрапывал в своем уютном гнездышке, когда Рейнхард вошел в театр через служебный вход. Его решимость была непоколебима.
– Ева! – крикнул он.
Он на ощупь пробирался впотьмах за кулисами. В полдень все огни были погашены, Гугдиэльмо пытался экономить на свечном воске и фонарных фитилях. Но где-то светился огонек. Наверно, на сцене.
– Ева!
– Сюда, – ответил голос, но не Евы.
Это был Детлеф.
Рейнхард вышел на сцену, топая тяжелыми башмаками по настилу. Он узнал сцену. Это было четвертое действие, когда казак находит Хайду в кабинете Зикхилла с избитой, истерзанной Нитой.
Детлеф был без грима, но на лице у него виднелась кровь, одежда превратилась в лохмотья. Ева на коленях забилась в угол, спрятав лицо в ладони. Трудно было не последовать сценарию и не занять свое место на сцене, чтобы девушка бросилась к нему в объятия, моля спасти ее от этого чудовища.
Но это не было ни репетицией, ни спектаклем.
– Рейнхард, – сказал Детлеф, – пошли Поппу Фрица за доктором. Еве требуется помощь.
– Что случилось?
Детлеф покачал головой:
– Все очень сложно.
Рейнхард оглянулся.
Вид у Евы был действительно безумный, это совершенно не вязалось с его представлением о ней. Внезапно, все еще прижимая руки к лицу, она вскочила и кинулась к нему. Он протянул ладони, стараясь удержать ее на расстоянии, но она проскользнула у него между рук и прижалась головой к его голове.
– В чем дело?
Он схватил ее за руки и оторвал их от лица.
Внимание Женевьевы раздвоилось. Она уже могла спокойно смотреть на Демона Потайных Ходов. Она поняла, что он несет с собой темноту, будто защитный покров. Его голова торчала из плотного кольца щупалец, и ему приходилось запрокидывать ее назад, вращая огромными глазами, чтобы иметь возможность говорить похожим на клюв ртом, расположенным в центре того, что, видимо, было грудью существа. Признаки мутации были налицо, придавая ему некоторое сходство с Тзинчем, Меняющим Пути. Но главным образом она видела его глаза, ясные и человеческие.
Однако драма на сцене еще не была доиграна до конца. Демон Потайных Ходов скользнул вперед, помогая себе щупальцами, взгромоздился на ограждение ложи. Они оба смотрели на живую картину внизу.
Ева была с Рейнхардом, а Детлеф смотрел на них, потом перевел взгляд в темноту.
Она попробовала прикоснуться к влажной шкуре Демона Потайных Ходов. Он отпрянул, потом расслабился и позволил ее пальцам коснуться его кожи.
– Красиво, да? – заметил он.
– Я видала и похуже.
Внезапно картина ожила.
19
Рейнхард выпустил Еву, и она распростерлась у его ног, как набитая ватой кукла, изображающая на сцене труп. Казалось, будто жизнь покинула ее.
– Ей… плохо, я думаю, – объяснил Детлеф.
Рейнхард все еще стоял вне круга света, но Детлеф сумел разглядеть что-то странное в его лице. На нем была маска.
– Рейнхард?
Актер вышел на свет, и Детлеф почувствовал, как рука ужаса сжимает его плечо. Рейнхард, казалось, стал выше, шире, его вздувшиеся мускулы распирали одежду. А лицо было жутким, спокойно невыразительным, серебристо-белым и мертвым. Он двигался как автомат, но постепенно движения становились все свободнее, гибче, как будто смазали заржавевшие шарниры.
– Комедиант, – выговорил Рейнхард не своим голосом.
Он огляделся, дергая головой, будто гигантская ящерица, и широкими шагами двинулся в темноту. Он вернулся с одним из предметов реквизита в руке.
С секирой из коллекции оружия Хайды.
– Именем Великого Чародея, Вечного Дракенфелса, – произнес Рейнхард, занося секиру, – ты должен…
Секира со свистом устремилась вниз.
– …умереть!
Лезвие с маху врезало Детлефу по лбу, со всей силой, вложенной Рейнхардом в этот удар. Он услышал, как вскрикнула Жени.
Вопль застыл в ее горле, когда Детлеф пошатнулся под ударом. Секира Рейнхарда была разбита в щепки, ее раскрашенное деревянное лезвие разлетелось о голову Детлефа. Рыча от ярости, молодой актер ударил драматурга тяжелой рукоятью бутафорского оружия по шее, выбив его из круга света.
Женевьева оглядывалась, ища, как быстрее выбраться из 7-й ложи. Демон Потайных Ходов думал о том же, он протянул одно из щупалец и сорвал занавеси. В зрительном зале висела люстра, ее удерживала длинная цепь, которая шла по потолку через крюки с проушинами и спускалась по стене, чтобы люстру можно было опускать и зажигать. Малвоизин дотянулся до цепи и ухватился за нее концом щупальца.
В Рейнхарде не было уже ничего человеческого, с белым неподвижным лицом он тяжелой поступью направился к Детлефу.
Демон Потайных Ходов рванул цепь, и она выскочила из проушин. Люстра закачалась, роняя огарки вчерашних свечей в партер. Теперь она крепилась лишь на одном центральном крюке, и оттуда посыпалась сухая штукатурка, когда люстра уперлась в потолок, играя роль удерживающего цепь якоря.
Рейнхард схватил Детлефа и поднял его, готовый бросить.
– Быстрее, – прошипел Демон Потайных Ходов, подавая Женевьеве цепь.
Она вскочила на бортик, как моряк, и, держась за цепь, понеслась по воздуху, выставив вперед ноги в тяжелых ботинках. В ушах стоял свист разлетающихся волос, она ерзала, пытаясь нацелиться Рейнхарду прямо в широкую грудь.
Женевьева услышала свой собственный крик.
Анимус прирос мгновенно. Новый хозяин в миг, когда произошло их слияние, был в возбужденном состоянии. Его сбивчивые мысли насчет Евы легко было обернуть в мысли против Детлефа.
Детлеф всегда стоял у молодого актера на дороге, отбирая главные роли. Годы проигранных боев, прекрасные девы и аплодисменты, достававшиеся Детлефу Зирку, глубоко ранили большое сердце и доброе чувство юмора Рейнхарда Жесснера.
Секира разлетелась в его руках на куски, бесполезное бутафорское оружие, но Детлефа удалось оглушить.
Чувствуя, как вздулись мышцы хозяина, Анимус высоко поднял Детлефа, намереваясь сбросить его со сцены навсегда, сломать ему хребет о ряды кресел партера.
Пушечное ядро ударило Рейнхарда в грудь, он отшатнулся и выронил Детлефа.
Девчонка, вылетевшая из темноты верхом на цепи, прокатилась кубарем по сцене, как акробатка, и вскочила, выпустив зубы и когти.
Хорошо. Теперь Анимус мог выполнить свою задачу. Детлеф и Женевьева оба были тут.
Детлеф поднялся. Анимус ударил тяжелым локтем Рейнхарда ему в лицо, сломав нос и отшвырнув актера к холщовой стене лаборатории доктора Зикхилла. Детлеф помотал головой, разбрызгивая вокруг себя капли крови, как отряхивающаяся собака – воду, и попытался подняться снова.
Вампирша налетела на Рейнхарда и получила такой удар кулаком, который даже ее заставил пошатнуться. Рейнхард был силен и так, но с Анимусом в мозгу он стал сверхчеловеком.
Открывались двери в зал, собирались привлеченные шумом люди. Подходили члены труппы, снаружи росла толпа.
Женевьева разодрала Рейнхарду штаны, пустив кровь, но не причинив вреда.
Анимус ударил вампиршу коленом Рейнхарда в подбородок и отшвырнул через всю сцену.
Загорались огни.
Анимус всей тяжестью прыгнул на Женевьеву, упершись ей коленом в спину. Руки Рейнхарда ухватили ее за голову.
Лишь серебро, или огонь, или кол могли бы по-настоящему убить вампиршу. Но если оторвать голову, ее здоровью на пользу это тоже не пойдет.
Анимус крутил голову, чувствуя, как растягиваются сильные шейные мышцы вампирши, как расходятся кости. Она стиснула торчащие зубы, но губы все равно были оттянуты назад. Ее глаза горели, как огненные точки.
Детлеф молотил его по плечам, с тем же успехом комар мог бы докучать быку.
В следующее мгновение голова вампирши оторвется.
Детлеф попятился, давая Анимусу место свершить свое кровавое дело. Женевьева зашипела сквозь зубы и с ненавистью плюнула Рейнхарду в маску.
– Именем Великого Чародея, – начал Анимус, – Вечного…
Что-то огромное и тяжелое обрушилось на Рейнхарда, липкие конечности сплелись вокруг его тела и потащили назад.
20
Демон Потайных Ходов пробрался по потолку и свалился оттуда на сцену.
Рейнхард Жесснер сошел с ума. Так же как сошла с ума Ева. Малвоизин не понимал, но догадывался, что в «Истории доктора Зикхилла и мистера Хайды» сокрыто нечто большее, чем просто старая кислевская легенда. В известном смысле ее надо было понимать буквально. Что-то способно пробудить Хайду в каждом человеке, и это что-то сразило Еву, а теперь и Рейнхарда.
Конечностям его измененного тела нашлось применение, он обвил ими запястья Рейнхарда, чтобы оторвать его руки от шеи Женевьевы. Вампирша совсем недавно отнеслась к нему с уважением, и он чувствовал себя признательным.
Рейнхард выпустил Женевьеву, вскочил и завертелся, колотя руками по основанию щупалец, пытаясь достать до нервов, а Демон Потайных Ходов висел на нем.
Актер был силен, но его тело было всего лишь человеческим.
Где-то в зале кричали люди.
По воздуху пролетела головешка и шлепнулась рядом с ними на сцену. Детлеф, ругаясь, затаптывал ее.
– Смотрите! – вскрикнул кто-то. – Монстр!
«Да, – подумал Демон Потайных Ходов, – монстр. Помогите мне драться с монстром».
Рейнхард яростно сопротивлялся, бесстрастный, как машина, методично пытаясь сбросить Малвоизина.
– Бей монстра! – закричал другой.
Что-то тяжело ударилось об его шкуру, и Малвоизин понял, кого кричавшие считают монстром.
– Бей!
Детлеф был сбит с толку: Рейнхард сошел с ума, и какое-то существо из глубин теперь боролось с ним на сцене.
Он подхватил Женевьеву и попытался убедить, что им надо бежать. Она еще плохо соображала, но наконец, начала переставлять ноги, когда они спускались по лесенке в зрительный зал.
Там были актеры, и офицер стражи, и посторонние с улицы. Все кричали. Никто не знал, что происходит. Поппа Фриц размахивал фонарем и вопил что было мочи.
Женевьева спотыкалась на ходу, но потянула Детлефа прочь от сцены, к выходу. Она хотела, чтобы они бежали.
Детлеф оглянулся. Монстр повис на Рейнхарде, как плащ, но актер высвободился из его хватки. Он напряг плечи, стряхнул с себя существо и отбросил его. Оно влажно шлепнулось об пол, разбросав щупальца, и кое-кто из людей приветствовал это радостными выкриками.
Рейнхард двинулся вперед и шагнул со сцены, пролетев шесть футов, но удачно приземлившись. Он выпрямился и пошел дальше, наступая на привинченные к полу кресла, шагая по партеру, как по пшеничному полю.
Люди начали затихать, видя, как ноги Рейнхарда крушат прочное дерево и обивку.
На пути у него встал стражник. Рейнхард мимоходом проломил ему грудную клетку, и тот повалился, кашляя, изо рта и носа его показалась кровавая пена.
Жени тянула Детлефа за собой.
– Оно идет за нами, – выдохнула она, – и оно не отстанет.
Рейнхард сказал что-то о Дракенфелсе.
– Это что, опять он? Вернулся?
Женевьева сплюнула:
– Нет, он в аду. Но он послал нечто прикончить нас тут.
– Зубы Ульрика!
Рейнхард оторвал у мужчины руку и отшвырнул прочь, спокойно пройдя сквозь фонтан крови. Он превратился в голема силы, непреклонного, целеустремленного, нерассуждающего, безжалостного.
Детлеф и Женевьева выбежали в фойе, забитое, как оказалось, народом. В основном это были обладатели билетов. Здесь уже разрасталась паника. Им пришлось пробиваться сквозь толпу.
Рейнхард проломил двойные двери, и все сразу принялись вопить. Стремясь оказаться от него подальше, люди разбивали окна, лезли на мебель.
Толпа подхватила Детлефа и Женевьеву и вынесла на улицу. Рейнхард, не сводя с них холодного взгляда, начал пробиваться к ним, ломая спины и шеи тем, кто оказывался на его пути, словно был торговцем птицей, забивающим цыплят. Отвратительный запах смерти – запах крови, экскрементов и страха – повис в воздухе.
Теперь они были на улице. Вечерело. Толпы разбегались кто куда. Детлеф столкнулся с почтенной женщиной, на которой была лента с надписью «Крестовый Поход За Нравственность», а в руках – плакат «Долой Детлефа Зирка». При виде его окровавленного лица она взвизгнула и упала в обморок. Он подобрал плакат и перехватил поудобнее, будто оружие.
Он услышал стук копыт и скрип колес. Подходила какая-то помощь. Жени все еще держала его за руку.
– Ничего хорошего из этого не выйдет, – сказала она. – Нам надо немедленно бежать.
Анимус стоял на мостовой, вокруг валялись мертвые тела.
Вампирша и комедиант убегают, но им не удастся ускользнуть.
Между ним и его жертвами остановилась повозка, с нее посыпались люди в доспехах, с оружием наготове.
– Именем Императора Карла-Франца, – начал офицер. – Я требую…
Анимус обхватил голову офицера ладонями и сжимал, пока она не разлетелась на куски, точно тыква.
Его помощник сглотнул и дал приказ к атаке.
В голову Анимуса впились арбалетные болты, но он не обратил на них внимания. Мечи полосовали его грудь, разрубая тело до костей. Не важно.
Вампирша и комедиант все еще оставались в поле его зрения. Они пробирались обратно в театр.
Анимус развернулся.
– Огонь!
Пистолетные пули врезались в его тело, заставив пошатнуться. Он подобрал тяжелую саблю обезглавленного офицера.
Рейнхард Жесснер был прекрасным фехтовальщиком.
Вращая вокруг себя клинок, рубя все, что попадалось на пути, он зашагал к Театру памяти Варгра Бре-геля, настойчиво стремясь добраться до цели.
Пистольер запустил в Анимуса своим оружием, и он отбил его взмахом клинка. Анимус сделал выпад и разрубил пистольеру шею. Под подбородком у человека образовалась дыра. Выдернув клинок из уже мертвого тела, он полоснул по лицу участника «Крестового Похода За Нравственность», и на месте глаз у того появилась кровавая река с носом вместо моста.
Детлеф Зирк закрыл двери театра, запер на ночные засовы. Анимус пробил кулаком в двери две дырки в том месте, где были запоры, и, пинком отворив дверь, снова вошел в фойе.
Он шагал по телам убитых им прежде.
Его жертв не было видно. Он внимательно оглядел одну сторону помещения, потом вторую. Он выискивал малейшие следы удирающей парочки.
Крышка потайного лаза в полу легла чуть косо, защемив уголок ковра. В противном случае, замаскиро-анная под обычную каменную плиту, она была бы незаметной вовсе.
Анимус нагнулся и рванул крышку, сорвав ее с петель.
Из угла фойе вылетела галлонная бутылка, обернутая грубой циновкой, и разбилась об его грудь, утыкав кожу крохотными осколками стекла. Его всего окатило густой сладковатой жидкостью, пропитавшей обрывки его одежды, склеившей волосы и бороду.
Виновником был тощий пожилой человек.
Воспользовавшись памятью Рейнхарда, Анимус узнал Гуглиэльмо Пентангели.
Управляющий из Тилеи держал в руке горящую лампу со снятым стеклом.
– Бренди? – спросил он и запустил лампой в Анимуса.
Прогремел взрыв, и Анимус оказался внутри огненной статуи с человеческими формами.
21
Когда люди, вопя «Смерть монстру!», пинали его тяжелыми башмаками, Малвоизин вспомнил, почему провел все эти годы в катакомбах. Добравшись до противоположного края сцены, Демон Потайных Ходов рывком ускользнул от своих гонителей, ежась от света и вскрикивая.
Он знал, где здесь ближайшая потайная дверь, и проскользнул в нее, испытав невероятное облегчение, когда позади стукнуло дерево, отрезая его от хаоса верхнего мира.
Он заскользил вниз, к воде.
Ему необходимо было смочить шкуру и поспать. Здесь, в темноте – в его темноте – его ожидал покой.
Но он услышал шаги. И крики. И огонь.
Они последовали за ним даже сюда. Покоя больше не будет, ни сейчас и никогда.
Женевьева продолжала бежать. Детлеф несся за ней по пятам. Здесь, внизу, целые мили туннелей. Может быть, Рейнхард не сумеет последовать за ними туда. Они были в одном из главных коридоров, направляясь к владениям Демона Потайных Ходов. Когда они отыщут убежище, то смогут отдохнуть и подумать, что делать дальше.
Она должна была умереть тридцать лет назад, во время первого похода в крепость Дракенфелса. Это избавило бы мир от множества хлопот, от множества смертей.
Детлеф бубнил что-то, но ей некогда было слушать. Она ощущала тепло. Здесь, внизу, был огонь. Огонь, который приближался.
Перед ними возникла завеса, и она отшвырнула ее в сторону. Это была покрытая пылью паутина, она расползлась, оставляя на ее лице и одежде мерзкие обрывки клейких нитей. Какие-то мелкие животные и крупные насекомые разбегались у нее из-под ног.
Огонь был позади, где-то возле потайной двери, через которую они попали сюда.
Она готова была опять превратиться в животное, воплощение инстинкта и кровожадности, убегающее от более крупной кошки, убивающее мелюзгу у себя под ногами. Это был ее мистер Хайда, всегда готовый взять верх, это его жестокое сердце билось в ее теле.
Они уперлись в стену. Оглядевшись, она поняла, что они оказались на складе оружия. Стойка у одной из стен ощетинилась мечами и кинжалами, уложенными клинками вперед. Им повезло, что они не налетели прямиком на острия.
Ей не следовало забывать, что по всему лабиринту, скорее всего, разбросаны ловушки.
– В полу, – выдохнул Детлеф, заметив крышку люка.
Она уже стояла на коленях, дергая кольцо. Они услышали шаги, и она потянула сильнее. Кольцо оторвалось, протестующе заскрежетав.
– Она заперта изнутри.
– Может, тут есть какой-то секрет?
Могучие шаги ударяли в землю, словно гигантские кулаки. Туннели сотрясались. Она уже чувствовала запах дыма, ее глаза заволокло слезами. В темноте сверкнуло далекое пламя.
– Это железо, – сказала она. – Люк ведет в сточную трубу.
– Ну и что? Мы и так уже в дерьме.
Она пожала плечами, и ее когти превратились в шила, мучительно медленно протыкающие металл. Она сжала пальцы в кулаки и принялась тянуть. По плечам и локтям снова разлилась боль.
Ходячий костер протиснулся в их убежище. Ходячий костер с лицом Рейнхарда Жесснера.
Женевьева рванула и услышала, как лопаются болты. Крышка люка разом отлетела, и она задохнулась, глотнув воистину омерзительного воздуха. Потом они все оказались в самом центре взрыва.
Детлеф понимал, что, открыв люк, они выпустили наружу облако канализационного газа. Он ощутил на лице влажный жар, опаливший бороду и брови, и его отшвырнуло к стене. Хоть он и зажмурился, вспышка казалась ярче солнечного света.
Он знал, что у него что-то сломано.
Попытавшись подняться, он понял, что левая нога бездействует. Он открыл глаза и увидел, что взрыв затушил пламя. Остатки паутины и детрита еще догорали, но основной огонь погас.
Рейнхарда отбросило на стойку с древним оружием. Тело его почернело от копоти и ожогов, но проткнувпши его насквозь клинки ярко сияли. Сверкающие острия трех мечей торчали из его груди. Он изжарился заживо, а теперь его еще и насадили на вертел. От вони горелой человеческой плоти во рту и носу Детлефа сделалось горько.
Не говоря уж об остальном, голова Рейнхарда неестественно повисла на сломанной шее.
Женевьева уже стояла на ногах. Лицо ее было в копоти, от одежды остались одни лохмотья. Но с ней все было в порядке. Она была в лучшей форме, чем он.
– Ему конец, – сказала она.
Она склонилась над Детлефом и осмотрела его раны. Когда она дотронулась до его колена, Детлефа пронзила острая боль.
– Насколько… плохо?
Она покачала головой.
– Не знаю. Но думаю, перелом.
– Священный молот Сигмара.
– Можешь повторить еще раз.
Он прикоснулся к ее лицу, стирая черную жирную копоть с девичьей кожи. Зубы ее становились меньше, красные искры в глазах затухали.
– Все нормально, – сказала она.
Позади нее Рейнхард Жесснер широко раскрыл глаза на черном лице и дернулся вперед, увлекая за собой стойку с пронзившими его мечами, отдирая ее от стены.
Он взревел, и Женевьева в отчаянии стиснула Детлефа в объятиях.
Если Рейнхард упадет на них, их проткнет множество клинков. Все трое так и умрут здесь.
22
Малвоизин во второй раз кинулся на Рейнхарда, отбросив его от Детлефа и Женевьевы, с силой ударив о закопченную стену. Рейнхард сломался в нескольких местах, клинки проткнули его плоть, и на дочерна обгоревшем теле появились красные разрезы.
Он обвил одержимого своими щупальцами и сжимал все крепче. Это тело было уже трупом, но цеплялось за жизнь. Малвоизин страшно сдавил его, используя всю мощь своего изменившегося тела, как никогда прежде.
Он понял, что стал сильным, скрываясь в своем логове. Это он сам ослаблял себя, сидя без дела в глубинах родной тьмы.
В море у него, пожалуй, был бы шанс.
Лицо Рейнхарда отделилось и прилипло к его собственному.
Анимус оставил уничтоженного хозяина и перескочил на Бруно Малвоизина, зарывшись в его измененное тело, копаясь во все еще человеческом мозгу. Должно что-то отыскаться у него в душе, на чем можно сыграть, чтобы обратить его против жертв Анимуса. Некая глубоко спрятанная червоточина горечи, ненависти к себе, страдания.
Это будет его последний хозяин и самый могучий.
Тот отцепился от тела Рейнхарда и потянулся щупальцами к Женевьеве.
Девчонка-вампирша широко распахнула глаза:
– Малвоизин?
Анимус собирался ответить ей «нет». Но Демон Потайных Ходов сказал:
– Да, это по-прежнему я.
Рассерженный Анимус приготовился нанести последний, смертельный удар.
Монстр двинулся к ним, и Детлеф вознес свою последнюю молитву. Он подумал обо всех ролях, которые никогда не сыграет, пьесах, которые никогда не напишет, актрисах, которых никогда не поцелует…
Щупальца скользнули по его сломанной ноге, по обгоревшей одежде, поднимаясь все выше по его телу. Женевьеву они оплели тоже. Демон Потайных Ходов был повсюду.
В центре его головы виднелось невыразительное белое лицо.
Потом чудовище застыло, будто ледяная статуя.
Женевьева задыхалась, по ее щекам бежали непрошеные красные слезы.
Она потянулась к маске, но та, казалось, ускользала от ее пальцев, погружаясь в шкуру Малвоизина, словно исчезая под гладью тихого пруда.
Маска была проглочена.
Малвоизин мысленно сражался с Анимусом, проглотив творение Дракенфелса одним глотком.
Внутри стало горячо, и он понял, что ему конец.
– Салли, – выговорил он, вспоминая…
Прикосновение варп-камня изуродовало его, но он никогда на самом деле не был Демоном Потайных Ходов. Это было просто театральное суеверие. В конечном итоге, он всегда оставался Бруно Малвоизином.
Он уже изменился настолько, насколько мог за отпущенное ему время жизни.
И Анимус не смог изменить его еще сильнее.
Умирая, Анимус даже не сожалел о своем поражении. Он был просто инструментом, который сломался. Вот и все.
Малвоизин рухнул на пол, внутри него бушевало пламя.
Белый туннель открылся во тьме, и в нем появилась фигура. Это была Салли Спаак, не старая и сгорбленная, какой была, когда умирала, но снова молодая, прекрасная и влекущая.
– Бруно, – промурлыкала она, – я всегда любила тебя, только тебя…
Белый туннель становился все больше и больше, пока не заслонил весь свет.
Женевьева оставила Детлефа и с трудом подползла к Малвоизину. Он еще вздрагивал, но был уже мертв. Ушел навсегда.
Что-то изменилось в нем. Туша по-прежнему принадлежала морскому существу, в которое он превратился, но голова как бы усохла и стала светлее. Там, где ее коснулась маска, появилось лицо. Наверно, его настоящее лицо. И на нем был покой.
Эта маска была словно зелье доктора Зикхилла. Она проявляла то, что скрывалось в душе человека, хоронилось в самых ее глубинах. У Евы и Рейнхарда это оказались жестокость, порочность, зло. В Бруно Малвои-ине ничего этого не было, и наружу вышли лишь его доброта и красота.
– Оно мертво? – спросил Детлеф.
– Да, – сказала она. – Он мертв.
– Слава Сигмару, – выдохнул он, не понимая.
Теперь она знала, что должна сделать. Спасти их обоих могло только одно. Она подползла к нему убедиться, что ему удобно и что прямо сейчас ему ничто не угрожает.
– Что это было?
– Человек. Малвоизин.
– Я так и подумал.
Она легонько погладила его по опаленным волосам.
– Думаю, нам придется снять спектакль… на некоторое время.
Она пыталась отыскать в себе силы.
– Детлеф, – выговорила она. – Я ухожу…
Он сразу понял, что это значит, но все же должен был заставить ее продолжать.
– Уходишь? Уходишь от меня?
Она кивнула:
– И из этого города.
Он молчал, на почерневшем лице жили лишь глаза.
– Мы не годимся друг для друга. Когда мы вместе, происходит вот что…
– Жени, я люблю тебя.
– И я тебя люблю, – отозвалась она, и тягучая слеза тронула красным уголок ее рта. – Но я не могу быть с тобой.
Она слизнула слезу, с удовольствием ощутив соленый привкус собственной крови.
– Мы, как это творение Дракенфелса или как зелье доктора Зикхилла, проявляем все худшее друг в друге. Без меня тебя не будут мучить все эти отвратительные кошмары. Наверно, ты даже станешь писать еще лучше, если я не буду тянуть тебя во тьму.
Она готова была разрыдаться. Обычно нечто подобное она испытывала, лишь когда ее возлюбленный умирал, старый и немощный, а она оставалась ничуть не постаревшей, понимая, что их юность промчалась, как жизнь бабочки-однодневки, а она осталась позади.
– Мы ведь знали, что это не навсегда.
– Жени…
– Прости, если я делаю тебе больно, Детлеф.
Она поцеловала его и выскользнула из комнаты. Должен же быть путь на волю из этого сточного колодца.
23
Оставшись в темноте наедине со своими ранами и мертвым существом, которое было человеком, Детлеф подавил желание заплакать.
Он гений, а не трус. Его любовь не умрет. Что бы он ни делал, этого не изменишь. Он мог бы перестать расходовать на нее миллионы слов и все равно не сумел бы задушить ее. Его цикл сонетов «К моей неизменной госпоже» не завершен, и результатом их расставания станет третья группа стихотворений. Оно вдохновит его на создание, пожалуй, величайшего из его произведений.
Запах был ужасный. Запах смерти. Знакомый запах смерти. Детлеф остро ощутил свое родство с мертвым драматургом.
– Бруно, – сказал он, – я возобновлю постановки всех твоих пьес. Уж хоть это-то ты заслужил. Твое имя будет жить. Клянусь тебе.
Мертвец не ответил, но Детлеф и не ждал этого.
– Конечно, мне, возможно, придется кое-что переработать, осовременить немножко…
Женевьева ушла и никогда не вернется обратно. Эта потеря была хуже любой раны.
Он пытался думать о чем-нибудь другом – о чем угодно, – чтобы отогнать боль, смягчить ее. Наконец он заговорил снова:
– Бруно, я вспомнил, что рассказал мне как-то Поппа Фриц. Это история про молодого актера, заявившегося однажды к самому Таррадашу, когда тот ставил собственные пьесы в Альтдорфе, в старом Театре Возлюбленных Ульрика, что через дорогу. Хотя я слышал то же самое про молодого певца, пришедшего к великому Орфео…
Его дыхание стало теперь глубже, боль в ноге затихала. Скоро за ним придут. Жени пошлет сюда людей. Гуглиэльмо не оставит его долго валяться здесь со сломанной ногой.
– Как бы там ни было, Бруно, вот эта история. Молодой провинциальный актер приезжает в большой город в поисках славы и удачи на сцене. Он может петь, он может танцевать, он может показывать фокусы, и он был звездой в своем университетском театре. Молодчик добивается встречи с Таррадашем и производит на великого мастера хорошее впечатление. Но не настолько хорошее, чтобы предложить ему место в своем театре.
«Ты молодец, – говорит Таррадаш, – ты талантлив, у тебя внешность, подходящая для главных ролей, сила акробата и грация танцора. Ты отлично исполняешь разученные для прослушивания отрывки. Но кое-чего у тебя нет. У тебя нет опыта. Тебе нет еще и восемнадцати, и ты ничего не знаешь о жизни. Ты не любил, ты не жил. Чтобы стать великим актером, а не просто талантливым манекеном, ты должен уйти и жить полнокровной жизнью. Возвращайся через шесть месяцев, расскажешь, как твои дела».
Лицо Детлефа было мокрым от слез, но его тренированный голос не дрогнул.
– И вот, Бруно, парень покидает театр, совет Таррадаша вновь и вновь звучит в его мозгу. Шесть месяцев спустя он возвращается и рассказывает такую историю. «Вы были так правы, господин, – говорит он великому человеку. – Я остался здесь, в этом городе, жил сам по себе, испробовал все. Я встретил девушку и благодаря ей узнал о себе такое, чего даже не подозревал. Такого со мной еще никогда не бывало. Мы любим друг друга, и душа моя так и трепещет, словно яблоневый цвет на весеннем ветерке».
Детлеф посмотрел на оплывшую тушу человека, который был Демоном Потайных Ходов.
«Все верно, – говорит Таррадаш. – Теперь, если она покинет тебя…»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ХОЛОДНЫЙ ПУСТОЙ ДОМ
1
Лежа в постели, он слышал доносящуюся издалека музыку. Ему казалось, будто музыка наполняет бесчисленные комнаты и коридоры Удольфо, точно газ, сладко пахнущий, но ядовитый, невидимо, но неумолимо растекающийся по большим и малым башням, по анфиладам комнат и конюшням, по чердакам и фронтонам громадного, несуразного, большей частью заброшенного дома. Внизу, в огромном холле, играли на клавесине, не то, чтобы хорошо, но с удивительным энтузиазмом. Это упражнялась Кристабель, угрюмая дочь Равальоли и Фламинеи, девушка с мягкими руками и зловещей улыбкой. Это было драматическое музыкальное произведение, исполненное неистового чувства.
Мельмоту Удольфо неистовые чувства были понятны. Благодаря снадобьям и настоям доктора Вальдемара он был пленником собственного усохшего тела, и его разум оставался единственной искоркой в этом уже гниющем трупе. И все же его обуревали неистовые чувства.
Он снова задумался о своем завещании. Бедняжке Женевьеве придется признаться, или она лишится наследства навсегда. Сейчас она вполне свежа, но – подобно ему – будет жить долго, слишком долго. Пинтальди нужно официально признать внуком Мельмота, чтобы иметь возможность передать состояние его теперешним любимцам, близнецам. Юный Мельмот – самый чистокровный Удольфо из них всех, и он стал бы великолепной партией для Флоры, когда подрастет и займет достойное место в этом мире. Лишь давно исчезнувший Монтони, чьим внебрачным сыном объявляет себя Пинтальди, мог бы, возможно, соперничать с ним в этом.
Несколько ночей назад юный Мельмот и Флора застали врасплох Мирру, одну из служанок, и связали ее. Они посадили ей на живот мышь и накрыли чашкой, закрепив ее шарфом. Через час мышь проголодалась и начала грызть мягкий пол своей тюрьмы. Юный Мельмот счел это замечательным опытом и поцеловал Флору в губы, празднуя успех. В них, несомненно, течет кровь Монтони; хотя одному Ульрику известно, кто была их мать.
Завещание должно отражать чистоту крови Удольфо. Несколько раз за последние столетия братья женились на сестрах, кузены на кузинах, и все для сохранения чистоты крови.
Старый Мельмот был почти слеп, но он не покидал постели лет уже, наверно, тридцать и не нуждался в зрении. Он знал, где вокруг него висят занавеси и куда каждый день ставят поднос.
Он не ощущал больше вкуса пищи, и обоняние тоже давно исчезло. Он не мог приподнять руку или ногу больше чем на один-два дюйма, да и то с огромным усилием, не мог даже оторвать головы от слежавшейся подушки. Но он все еще слышал. Пожалуй, слух у него теперь острее, чем был в молодости.
Он слышал все, что происходило в стенах Удольфо.
В разрушенное западное крыло, где отсутствовала крыша и великолепные мозаичные полы, созданные по эскизам его безумного двоюродного прадеда Гесуальдо, были открыты всем стихиям, порой забредали в поисках добычи волки. В конюшнях все еще жужжали мухи вокруг заброшенных, умирающих лошадей. В подвалах скреблись в старинные дубовые двери крысы, шмыгающие среди костей позабытых узников. А бедная Матильда, с раздувшейся до невероятного головой, время от времени бушевала, протестуя против своей судьбы, у себя в комнате, круша мебель и бросаясь на слуг с энергией, которой старый Мельмот мог только позавидовать. Надо включить в завещание содержание для Матильды. Покуда она остается человеком, она должна получать пособие.
Во мраке, который вечно был теперь перед его лицом, появился свет. Сначала маленький, он становился все ярче. Свет был голубой, какой-то нездоровый, и в нем было лицо. Знакомое лицо. Длинный нос, провалы пустых глазниц вместо глаз.
Старый Мельмот узнал черты своего старшего сына.
– Монтони, – выдохнул он, его истончившееся, как бумага, горло изрыгнуло это имя, будто волосяной клубок.
Законный наследник Дома Удольфо, который исчез ночью в бурю шестьдесят лет назад, смотрел на развалину, оставшуюся от отца, и его пустые глазницы наполнялись жалостью.
Старый Мельмот улыбнулся, и лицо его пошло трещинами. Десны ныли. Не сейчас. Он еще не готов. Он вцепился в простыню, как цеплялся за жизнь. Столько еще нужно сделать, столько изменить. Он не готов к смерти.
2
Принц Клозовски молил богов, в которых, по его утверждениям, больше не верил, чтобы никто из его попутчиков не умер от желтой лихорадки. Он предполагал, что большинство из них стали жертвами обычного голода или чрезмерного усердия пыточных дел мастера, но один из частых гостей Марино Зелучо вполне мог занести сюда болезнь, которая давала возможность быстро покинуть подземную тюрьму дуче. Пока повозка грохотала по ухабистой дороге к болоту, он чувствовал, как из нескольких тел на него сочится жидкость, и покрепче зажимал рукой рот и ноздри. Лежа среди трупов, он ощущал исходящую от них вонь. Дышать становилось все труднее. Естественно, Клозовски находился в самом низу, и тяжесть громоздившихся над ним тел становилась невыносимой. Он уже не чувствовал ни рук, ни ног, и при каждой попытке пошевелиться локти обжигала боль. Душная тьма становилась все жарче с каждой милей ужасного пути.
Дуче сказал ему, что единственный путь на волю из подземной тюрьмы Зелучо – в повозке с мертвецами, и вот он тут, доказывая, что паразит был прав. Если это суровое испытание не окончится в ближайшее время, Клозовски, как ни печально, не доживет до того, чтобы воспользоваться его плодами. Его матушка, вдовствующая принцесса, не одобрила бы его теперь. Но она не одобряла сына с малолетства, так что это едва ли можно считать чем-то новым. Ему хотелось откашляться, но на спину давил слишком большой груз. Он смог лишь слабо кашлянуть, вжимаясь тощим телом в грубый деревянный настил повозки.
Из всех его дерзких побегов этот был наименее приятным. Сквозь щели между досками он втягивал холодный чистый воздух да видел иногда случайные отблески света в придорожных лужах. Послушник Морра, удобно устроившийся на мягкой подушечке облучка, мурлыкал себе под нос какую-то заунывную мелодию, транспортируя человеческие отходы к болоту, служившему тюрьме негласным кладбищем. В болоте водились существа, которых хозяева Зелучо предпочитали сытно кормить в надежде, что тогда тем не вздумается покинуть свои водяные жилища в поисках живого мяса. Тилейцы всегда поступали таким образом, предпочитая приспосабливаться к созданиям Хаоса, а не сражаться с отвратительными монстрами.
Зелучо слишком хорошо жил на то, что вытягивал с крестьян, чтобы утруждаться созданием заводов и фабрик. Он был типичным паразитом, плодом десяти поколений кровосмешения, притеснения людей и благоуханных привилегий. Случись революция, клялся себе Клозовски, и все будет иначе…
Погода в этих унылых краях, где леса сменяются болотами, славилась своей непредсказуемостью, и Клозовски несколько раз слышал, как начинал барабанить дождь по брезентовому верху повозки. Он был уверен, что порой к неизменному грохоту колес примешивался случайный раскат грома. Тут часто случались наводнения. Большинство здешних дорог едва ли были чем-то иным, как не болотными гатями, за которыми к тому же скверно следили.
Клозовски продолжал корить себя. Как обычно, в теперешнем затруднительном положении он был виноват сам. На революционном пути всегда встречались разные соблазны, и слишком часто он позволял себе поддаться искушению. Сначала он проповедовал свою веру донне Изабелле Зелучо, убеждая ее в перерывах между более традиционными ухаживаниями в справедливости провозглашенной им борьбы. Она, казалось, согласилась с тем, что аристократия – это мерзость, которая должна быть стерта с лица земли в результате неистовой революции. Однако было неразумным переходить от философского и амурного завоевания супруги дуче сразу же к покорению его дочерей, Олимпии и Джульетты. Девушки страстно желали узнать побольше о революции и сбрасывании оков, особенно когда Клозовски доказал им, что старомодное и ханжеское целомудрие, которое проповедовали их родители, будет отброшено наряду с любыми понятиями о званиях и титулах. Но, по мере того, как энтузиазм сестер рос и приносил весьма успешные плоды, у их матери он все угасал.
Повозка наскочила на лежащий посреди дороги камень, и чья-то выпирающая кость воткнулась ему в бок. Он явственно услышал гром. Суеверные люди говорили, что удары грома – это знак гнева Ульрика, бога сражении, волков и зимы. Клозовски, знавший, что боги – это выдумка, изобретенная паразитами-церковниками, чтобы оправдать угнетение трудящихся масс, вознес молитву Ульрику, чтобы тот помог ему выбраться из-под этой горы трупов. Сквозь щель перед его глазами полыхнула молния, и он увидел дорожную грязь и пучки травы, белой в свете мгновенной вспышки. Где-то совсем рядом снова раскатился гром. Наверно, приближается гроза.
Однажды ночью, когда он возвращался в растрепанном виде после встречи с одной из девушек, его схватили стражники и притащили к дуче на длинную лекцию о правах и обязанностях богатых наследников. Донна Изабелла, забыв о своих новых взглядах, покорно стояла рядом со своим толстым богатым супругом, кивая вслед каждому его слову, словно его речь не была эгоистичной болтовней идиота с обезьяньими мозгами. Закончив тираду, Зелучо, не дав Клозовски никакой возможности опровергнуть его жалкие аргументы в обстоятельной дискуссии, приказал бросить революционера в глубины подземной тюрьмы до конца его дней. Дуче представил узника Танкреди своему укрытому под капюшоном приспешнику, имевшему репутацию самого искусного мастера пыток во всей Тилее, и заверил его, Клозовски, что их знакомство перерастет, к обоюдному удовольствию, в куда более глубокие отношения, которые доставят ему, Зелучо, немало незабываемых часов. Дуче предвкушал вопли боли, отказ от самых глубоких политических убеждений и душераздирающие, хотя и тщетные извинения, предложения о возмещении убытков и мольбы о милосердии.
Кость проткнула ему кожу и вонзилась глубже. Чувство боли порадовало Клозовски. Оно давало ему понять, что он еще в состоянии что-то чувствовать. Кровь стекала струйкой и скапливалась под ним. Туман, который начал было затягивать его мозг, рассеялся. Повозка ехала быстрее, послушник пытался управиться со своим неприятным делом до начала грозы.
Если бы не сердечность, великодушие и сострадание Фиби, миловидной и впечатлительной дочки тюремщика, Клозовски все еще сидел бы в тюрьме, прикованный к стене, дожидаясь, когда Танкреди раскалит свои щипцы и клейма, смахнет пыль с тисков для раздавливания пальцев и начнет для вдохновения листать справочник по анатомии.
Его побег может еще окончиться неудачей, если наваленные сверху трупы вышибут из него дух. Он старался набирать в грудь побольше воздуха и задерживать его там как можно дольше, делая медленный, мучительный выдох. После этого он боролся за следующий вдох. По спине, обжигая, разливалась сверху донизу боль. Теперь он чувствовал ноги, их словно кололи тысячи крохотных ножей. Он пытался пошевелиться, спихнуть тяжелых мертвецов со своего хребта.
Клозовски поклялся, если останется жив, написать «Эпопею Фиби», которая прославит дочь тюремщика как героиню революции, достойную сравнения с мученицей Ульрикой Блюменшейн. Но вспомнил, что часто клялся написать эпические поэмы и неизменно утрачивал пыл после, самое большее, пары десятков страниц. Как поэт он был более силен в коротких произведениях, вроде шести строф его достопамятного «Пепла стыда». Он попытался наметить первую песнь «Баллады о Фиби», решив ограничиться дюжиной стихов. Из этого ничего особенно не вышло, и он начал думать, не будет ли достаточно сонета «Фиби», чтобы оплатить его долг благодарности.
Повозка поехала медленнее. Клозовски гадал, что могло встревожить послушника.
Для революции настали плохие дни. В подземелье он вдруг понял, что не написал ни единой поэтической строчки с самого бегства из Альтдорфа, вскоре после Великих Туманных Бунтов. Когда-то стихи лились из него, словно вино из проколотого бурдюка, донося его страсть до тех, кто слышал его выступления или читал его памфлеты, пробуждая подавленное недовольство всюду, где бы они ни звучали. Теперь они стали редкостью. Вожди революции разбежались, заточены в тюрьмы или убиты, но дело их живет. Пламя, может, и угасло, оставив после себя лишь маленькую искорку, но он, покуда дышит, не перестанет раздувать эту искру, веря, что, в конце концов, пламя вновь разгорится и уничтожит ненавистный всемирный заговор титулованных воров и убийц.
Повозка остановилась, и принц Клозовски услышал голоса.
Он мог говорить на изысканном тилейском паразитирующих классов, вдовствующая мать позаботилась о его образовании, но ему трудно было понимать грубый жаргон угнетенных масс. Это составило определенные трудности в Мираглиано, где он надеялся посеять семена бунта, но выяснилось, что потенциальные революционеры большей частью не обращают на него внимания, поскольку не в состоянии понять его аристократические речи. В конце концов, он покинул город, когда там стала распространяться желтая лихорадка и из людей прямо на улицах вдруг начинала сочиться желтая жидкость. В Тилее всякой заразы было больше, чем на портовой собаке блох.
В оживленной перепалке участвовали три голоса. Один принадлежал послушнику Морра, два других – встретившимся на дороге незнакомцам. Те были пешими, а повозку тащили две вполне приличные лошади из конюшни дуче. Мужчины явно усматривали в этом несправедливость и настаивали на том, чтобы она была немедленно исправлена. В любое другое время Клозовски поддержал бы их законное требование, но если эта поездка затянется, то его отсутствие в тюрьме Зелучо может быть замечено, и стражников снарядят в погоню.
Дуче не из тех, кто готов простить человека, который, как он предполагал, опорочил его жену и дочерей, и позволить подстрекать к бунту крестьян в своем поместье, предлагая арендующим у него землю фермерам оставлять большую часть выращенного себе, а не отдавать девять десятых урожая в амбары замка. И донна Изабелла вряд ли будет благосклонна к любовнику, который, как она объявила, бросил ее ради более зеленых маслин, сколько бы он ни твердил ей, что верность – всего лишь одна из цепей, которыми пользуется общество, чтобы заточить истинного революционера в тюрьму своих догм.
Послушник Морра упорствовал. Он не отдаст лошадей, чтобы самому застрять посреди дороги с полным возом быстро тухнущих трупов.
Внезапно он изменил мнение. Послышались новые голоса. Другие мужчины, не пешие, появились из придорожного леска и принялись настаивать, чтобы послушник отдал лошадей дуче их товарищам, чьи кони были убиты. Кругом раздавались голоса, и Клозовски слышал, как фыркают подъехавшие совсем близко кони. Повозку окружили. Один из всадников говорил на удивление правильно, обращаясь к послушнику на хорошем Старом Всемирном. Он утверждал, что его люди остались безлошадными в результате кровавого сражения с бандой грязных скейвенов, крысообразных существ, представлявших такую большую проблему в Гиблых Болотах, и что послушник должен быть горд, что помогает таким героям.
Возница, наконец, сделал вид, что поверил, и лошадей выпрягли. Пешие путники надели седла на своих новых скакунов, и весь отряд умчался прочь по болотистой дороге.
– Бандиты, – сплюнул послушник, когда компания оказалась вне пределов слышимости.
Клозовски опасался, что его спина сломается под тяжестью трупов. Если он попытается встать, не окажется ли, что обломки его костей превратились в ножи, рвущие его изнутри почище добела раскаленных вертелов Танкреди. Конечно же, боль стала еще сильнее.
Повозка больше не двигалась. Снова загрохотал гром.
Он пошевелил руками, проверяя их силу, надеясь, что не слишком ослаб за время, проведенное в подземной тюрьме. Потом уперся в дно повозки, пытаясь выпрямиться. Это было мучительно, но он почувствовал, как сдвигаются тела, из-под груды которых он пробивался наверх. Его голова уперлась в брезент, туго натянутый поверх трупов. Однако ткань была старая и ветхая. Сжав кулак, Клозовски ударил по ней и почувствовал, что материя поддается. Он встал, раздирая брезент, протискиваясь через им же проделанную дыру. С шипением вышел трупный газ и быстро рассеялся, после него остался лишь мерзкий привкус в горле.
Был вечер, ночь еще не наступила. Стояла ранняя весна, болотные насекомые уже проснулись, но еще не проявляли столь убийственной кровожадности, как в разгар лета.
Он вдохнул чистый воздух и победно вскинул руки. Внутри него все осталось целым.
Послушник, совсем молодой человек, в скинутом на плечи капюшоне, взвизгнул и замертво рухнул на дорогу, лишившись чувств.
Клозовски рассмеялся. Он мог вообразить, на что походил, выскочив из-под мертвых тел.
Небо было плотно затянуто грозными тучами, лун не видно. Последние закатные лучи заливали горизонт кровью и рассыпали оранжевые блики по болотам на юге. Начинал моросить дождь, оставляя пятна на рубахе Клозовски. После жары и грязи это доставляло удовольствие, и он смотрел в небо, подставляя дождю лицо, чувствуя, как по бороде сбегают струйки. Дождь припустил уже всерьез, и он огляделся, мотая головой. Дождевая вода была самой чистой из того, что ему довелось пробовать за последние недели, но такой холодной, словно только что растаявший лед, и он за минуту продрог до костей.
Поэт-революционер выбрался из повозки, размышляя, где он и что делать дальше. К югу лежали Гиблые Болота, по их глади барабанили дождевые капли с гальку величиной. К северу виднелись жидкий, чахлый лесок и гряда высоких гор, тянущихся вдоль границы с Бретонией. Ни одно из направлений не выглядело особенно привлекательным, но о болотах он слышал слишком уж ужасные истории. Казалось разумным держаться подальше от всего, что именуется на картах гиблым.
Вдалеке он услышал стук копыт. Едут этой дорогой. Возможно, это погоня за бандитами, но они будут не прочь изловить сбежавшего узника. Решение пришло само.
3
Библиотека Удольфо была одним из крупнейших частных собраний в Старом Свете. И самым заброшенным. Женевьева вошла в огромную центральную галерею и подняла фонарь. Она стояла на островке света в океане теней.
Где же Равальоли и Пинтальди?
На полу лежал толстый слой недавно потревоженной пыли. Равальоли и Пинтальди находились где-то в лабиринте из книжных шкафов. Женевьева помедлила, пытаясь воспользоваться своим сверхъестественно чутким слухом. Равальоли часто говорил, что есть в ней нечто странное.
Она могла слышать, как стучит дождь в пять окон тридцатифутовой высоты в конце галереи. Она знала, что это, наверно, демон бури. Над Удольфо часто бушевали бури, осаждая горную крепость, будто вражеские армии. Когда шли сильные дожди, ущелья превращались в подобие водосточных труб с хлещущей из них водой, и тогда покинуть имение было невозможно.
Где-то в библиотеке в дыру в стене задувал ветер, издавая странный плач, похожий на голос флейты. Звук был немелодичный, но чарующий. Ватек утверждал, что это плач Призрачной Невесты, убитой четыре века назад ревнивым братом-любовником накануне ее свадьбы с прапрапрадедом Мельмота Удольфо Смаррой. Женевьева не слишком доверяла всем этим россказням Ватека о призраках. По словам семейного адвоката получалось, что на каждый камень в Удольфо, на каждый квадратный фут поместья приходилось по три призрака каких-то древних невинно убиенных. Если принять все это на веру, поместье должно по колено утопать в крови.
Кровь. Мысль о крови заставила сердце Женевьевы забиться чаще. Во рту пересохло. За последнее время она ничего не ела. Она представила себе кусок почти сырой говядины, исходящий кровью в супнице.
Она стояла в окружении шкафов высотой до потолка, заполненных невообразимым множеством книг. Большинство томов никто не тревожил столетиями. Лишь Ватек вечно рылся в библиотеке в поисках историй о давно забытых деяниях или призраках. Шкафы образовывали стены лабиринта, полный план которого еще никто не сумел составить. Здесь не было никакой системы, никакой картотеки. Пытаться отыскать какую-то конкретную книгу представлялось столь же безнадежным занятием, как искать конкретный лист в Лоренском лесу.
– Дядя Гвидо! – позвала она, и ее слабенький голосок запрыгал между книжных шкафов. – Синьор Пинтальди?
Слух ее уловил бряцание клинка о клинок: она нашла вечных дуэлянтов. На нее опустилось облако пыли, и ей пришлось затаить дыхание. Между звяканьем и лязгом она расслышала бормотание сошедшихся в поединке мужчин.
– Дядя Гвидо?
Она подняла фонарь и вскинула взгляд к потолку. К шкафам были приделаны лесенки, чтобы обеспечить доступ к верхним полкам, а между ними, на высоте двадцати футов над каменными плитами пола, перекинуты мостки.
Там, наверху, виднелись огни и плясали тени. Теперь она видела дуэлянтов, жмущихся к книжным шкафам, наносящих поочередно удары клинками.
Гвидо Равальоли, муж сестры ее матери, цеплялся одной рукой за лестницу, наклонившись над проходом. Женевьева видела его вставшую дыбом бороду над тугим белым гофрированным воротником и белые прорехи в его камзоле, где острие меча Пинтальди повредило ткань. Пинтальди, утверждавший, что он незаконнорожденный отпрыск пропавшего сына Старого Мельмота, Монтони, был моложе и сильнее, он прыгал от шкафа к шкафу с паучьей ловкостью, но ее дядя превосходил его в фехтовании. Они были равными соперниками, и их поединки обычно оканчивались ничьей.
Крайне редко одному из них удавалось убить другого. Никто уже не мог вспомнить, что изначально послужило причиной их спора.
Женевьева окликнула дуэлянтов, прося их остановиться. Порой у нее появлялось такое ощущение, что единственной ролью, отведенной ей в Удольфо, была роль семейного миротворца.
Равальоли запустил в своего непризнанного родственника целой охапкой книг. Пинтальди отбил их в полете, и они попадали на пол, ломая корешки. Женевьеве пришлось отступить. Равальоли сделал выпад, и острие его меча вонзилось в плечо Пинтальди, пуская кровь. Пинтальди нанес ответный удар сплеча, чиркнув Равальоли по лбу, но рана сильно беспокоила его, и он не мог нормально держать меч.
– Дядя, прекрати!
В Удольфо случалось чересчур много дуэлей. Члены семейства слишком походили друг на друга, чтобы мирно уживаться вместе. А пока Старый Мельмот оставался на смертном одре, никто не осмеливался уехать, боясь, что его вычеркнут из завещания.
Начало состоянию, как она знала, было положено отцом Смарры Удольфо, пиратом, собравшим богатую добычу, грабя побережье на своем галеасе «Черный лебедь». На протяжении веков деньги приумножались с помощью самых разных видов разбоя, честного труда и выгодных браков. Их было достаточно для всех, но каждый хотел получить больше, много больше. И, несмотря на видимое богатство, ходили нескончаемые слухи, будто Черный Лебедь спрятал большую часть своей добычи в потайном месте в окрестностях имения, слухи, спровоцировавшие многих на упорные, но напрасные поиски зарытого золота.
По крайней мере, так она поняла. Детали часто бывали неясны. Порой она не могла быть уверена даже в том, кто она такая. Она помнила лишь Удольфо, где один день походил на другой. Но не помнила, чтобы была когда-нибудь моложе своих шестнадцати лет. В этом доме ничто не менялось, и иногда она не знала, живет ли здесь всю жизнь или всего лишь мгновение. Могло ли это быть сном? Сном, приснившимся какой-то другой Женевьеве, вторгшимся в некую другую жизнь и полностью позабытым, едва видящий его проснулся?
Пинтальди пошатнулся. Веревки, на которых держался помост, натянулись, и Равальоли, неистово хохоча, принялся перерубать их.
Ее, может быть, второй кузен упал на колени. Его рана сильно кровоточила – алое на белой ткани рубахи с широким открытым воротом. У Пинтальди были аккуратно подстриженные усы и, ясное дело, лицо все в старых шрамах.
Издав победный клич, Равальоли взмахнул мечом, как топором, перерубив еще один толстый канат.
Помост развалился на части, деревянные планки посыпались на пол, осталась одна лишь веревка. Пинтальди начал падать, уцепился неповрежденной рукой за канат и повис в воздухе. Он вскрикнул. Меч его полетел вниз и вонзился в валяющуюся книгу.
Равальоли припал к одному из шкафов, втиснувшись между рядами огромных толстых книг. Теперь он не выглядел торжествующим. Глаза его заливала кровь.
Пинтальди потянулся к веревке раненой рукой, пытаясь покрепче ухватиться за нее, но не смог сжать пальцы в кулак. Ее дядюшка утер лицо и нанес последний удар, перерубив последний канат. Женевьева ахнула. Пинтальди тяжело ударился о книжный шкаф, ломая кости, и грохнулся возле нее. Его голова была вывернута под странным углом к телу.
Ей не оставалось ничего другого, как ждать.
Равальоли осторожно спустился со своего насеста. Он был ранен во время дуэли, и одежда его намокла от крови. У него не осталось сил даже на то, чтобы плюнуть на поверженного противника.
Женевьева смотрела на него, не считая нужным в очередной раз протестовать, Он уже знал, что эта семейная междоусобица бессмысленна, но не мог перестать сражаться, как она не могла перестать пытаться мирить их. Таковы уж были Удольфо.
Почему кровь, сочащаяся из узкой раны на его лбу, так возбуждает ее? Она может ощутить ее запах, ее вкус. Кровь сверкает, стекая тоненькой струйкой. Она чувствовала непонятную жажду.
Зазубренное копье молнии ударило в землю за окнами, осветив библиотеку такой вспышкой, что стало больно глазам. Тут же прогрохотал гром, сотрясая все здание.
Женевьева поддержала Равальоли, помогла ему добраться до дивана и усадила. Ему требовалось поспать.
Позднее она даст полный отчет Ватеку, а тот донесет его до Старого Мельмота. Завещание, этот без конца обсуждаемый между патриархом и его адвокатом секрет, возможно, будет изменено. Это завещание, главный предмет разговоров в залах Удольфо, все время изменяется, все новые пункты в него вписываются, изымаются, восстанавливаются, заменяются, меняют формулировку или пересматриваются. Никому, кроме Мельмота и Ватека, не было известно, что написано в завещании, но каждый строил свои предположения…
Она подошла к окну и выглянула в ночь. Библиотека находилась в самом сердце южного крыла Удольфо, здания, выстроенного посреди плато в виде гигантского креста, и из ее окон открывался вид на склоны, спускающиеся к долине. В ясную погоду, что случалось на удивление редко, можно было видеть даже Мираглиано и море. Сейчас же виднелась лишь впечатляющая завеса облаков с пленительным узором из дождевых капель. В одно из чахлых деревьев за разрушенной часовней Мананна угодила молния, и оно пылало, как факел, рваное пламя во тьме, сопротивляющееся хлещущим потокам дождевой воды. В его дрожащем свете казалось, что камни часовни пустились в пляс, будто в них, как сказал бы Ватек, вселились души жертв, которых пиратствующий папаша Смарры отправил на дно Тилейского моря.
Рука легла Женевьеве на плечо, ее развернули.
– Огонь, – прохрипел сломанным горлом Пинтальди. – Чудный огонь…
Пинтальди славился тягой к огню. Из-за этого он частенько попадал в беду. Его голова все еще торчала под странным углом, а плечо заскорузло от засохшей крови.
– Огонь…
Мягко обхватив его голову сильными руками, Женевьева повернула ее и правильно усадила на шее. Он выпрямился и для пробы покачал головой во все стороны. Убедившись, что все в порядке, Пинтальди не поблагодарил ее. Его взгляд был прикован к горящему дереву. На кончиках его усов повисли хлопья пены. Женевьева отвернулась и вместе с ним смотрела, как буря расправляется с огнем.
– Будто борющаяся душа, – сказал Пинтальди, – во власти богов.
Порыв ветра сбил пламя с дерева, которое стояло теперь, дымясь, с перекрученными, почерневшими, мертвыми ветвями.
– Ее поражение неизбежно, но пока она горит – горит ярко. Это должно послужить нам уроком.
Пинтальди поцеловал ее, вкус его крови обжег ей язык, и отшатнулся, отстраняясь. Временами он бывал ее любовником. Порой – заклятым врагом. Трудно было уследить. Все эти вариации имели какое-то значение для завещания, в этом она не сомневалась.
Он ушел. За окнами яростно ревела буря, терзая камни Удольфо. Этой ночью дом был холоднее льда.
4
Одеяние послушника отяжелело от ледяной воды, и Клозовски уже жалел о тепле и безопасности в груде мертвецов. Он заблудился в лесу. Судя по боли в ступнях и коленях, он лез куда-то в гору. Склон становился все круче, стремительно сбегающие с него потоки завивались вокруг его ног. Если тут и бродили разыскивающие его стражники, он не услышал бы их за шумом воды. Не позавидуешь тому, кто попытается верхом и в доспехах пробиваться сквозь такую бурю, и он полагал, что люди Зелучо уже, наверно, отказались от этой мысли. Но от этого было не намного легче.
Вспыхнула молния, запечатлевая черно-белое изображение леса в его глазах. Все деревья здесь были искривленные и корявые, будто в земле имелись залежи варп-камня и семена Хаоса, прорастающие среди других корней, изуродовали лес, сделав его похожим на ночной кошмар. С каждой вспышкой молнии казалось, что деревья все больше наклоняются вперед, протягивая ветви с острыми сучьями, точно руки со множеством локтей. Он приказал себе не поддаваться суевериям и поглубже натянул одолженный у послушника капюшон. Ледяная струйка воды побежала ему за шиворот.
Мягкая земля под ногами превращалась в море грязи. Скоро между лесом и болотами на юге не останется особой разницы. Он с трудом брел по этому месиву; а башмаки послушника оказались ему чересчур велики и уже заполнились густой холодной жижей, от которой стыли пальцы на ногах. Если он остановится, то тут же и утонет в грязи.
Он упорно пробивался вперед, а дождь тугой стеной преграждал ему путь вместе с постоянно меняющим направление ветром. Его одеяние хлопало на ветру, словно ослабевшие крылья умирающего ворона. Символ Морра, вышитый у него на груди, был очень кстати. Он, наверное, уже вполне походил на мертвеца.
В первую очередь сейчас он должен найти убежище. Ни одно из деревьев не могло бы укрыть его от дождя и ветра. Колени его готовы были подогнуться, а голые кисти рук сморщились, как у утонувшего моряка, который пробыл в воде уже достаточно долго, чтобы рыбы успели выесть его глаза. Могло статься, и в этом тоже была своя ирония, что он сбежал из подземных казематов Зелучо только для того, чтобы погибнуть на свободе, чтобы стать жертвой не жестокости дуче, а равнодушных и беспристрастных стихий.
Земля плавно уходила вверх, кругом текли неспешные ручьи жидкой грязи. Наверняка где-то здесь должна быть охотничья избушка или же хижина дровосека. Он обрадовался бы даже пещере.
Клозовски показалось, что впереди вверху виднеется огонек.
В ногах его словно прибавилось силы, и он, раздвигая плечом пелену дождя, устремился на свет. Он не ошибся, это действительно был огонь. Но почему-то вид его вызывал беспокойство. Бледное голубое свечение, ровное, искажаемое лишь завесой дождя, повисшей между ним и Клозовски.
Он дотащился до насыпи, укрепленной камнями и бревнами, и оказался на остатках дороги. Теперь огонь был ясно виден: голубой шарик, повисший в нескольких футах над землей, как маленькое слабое солнце. А под ним лежала опрокинувшаяся карета.
Лошадь со сломанной шеей запуталась в постромках, ноги ее торчали в разные стороны. Здесь же, уткнувшись лицом в грязь, валялся кучер в ливрее. Он не шевелился, придавленный поперек спины упавшим деревом.
Клозовски побежал, шлепая башмаками по мощенной булыжником, укатанной дороге. По крайней мере, карета – это хоть какое-то укрытие.
Ему не хотелось смотреть на голубой свет, и он пытался отвести от него взгляд. В самом центре голубой оттенок бледнел и переходил в белый, и еще там виднелись какие-то темные пятна, плотность свечения все время менялась, и все вместе напоминало ему лицо.
Раздался скрип. Внутри кто-то вскрикнул. Карета лежала на боку, в одно из открытых окон хлестал дождь. Там, внутри, находились люди, и они о чем-то спорили. Капли голубого пламени стекали, будто дождь, и испарялись с поверхности кареты. Клозовски добрался до экипажа, и его залил голубой свет, от которого не исходило ни малейшего тепла.
– Эй, там! – прокричал он. – Друг, друг!
Он подтянулся и заглянул в открытое окно. Раздались хлопок и шипение, вскрикнула женщина.
– Вы идиот, я же говорила, что оно не выстрелит, если порох отсырел.
Клозовски попытался забраться внутрь, но нарушил неустойчивое равновесие кареты. Он услышал, как стукнуло о дорогу колесо, когда экипаж выровнялся. И соскочил, чтобы ему не переломало ноги. Люди внутри попадали на пол и, похоже, оцепенели от ужаса.
– Прочь, чудовище, – произнес мужчина.
Клозовски увидел наставленный на него дрожащий пистолет. Его полка и ствол почернели от сажи и еще дымились. Еще раз он не выстрелит. Революционер потянул на себя дверь и втиснулся внутрь, оттолкнув стрелка.
Внутри было мокро, но, по крайней мере, дождь не хлестал по лицу. Звук был такой, будто на деревянной крыше экипажа бьют тысячи барабанов.
В карете Клозовски обнаружил двоих пассажиров: дородного мужчину в возрасте, вооруженного пистолетом, и девушку лет двадцати, хорошенькую, с копной медно-золотистых локонов.
Должно быть, отправляясь в путешествие, они были хорошо и дорого одеты. Теперь же стали мокрыми, грязными и оборванными, как самые жалкие из крестьян. Природа всех уравнивает не хуже революции. Пассажиры явно боялись его и отпрянули, уцепившись друг за друга.
– И что ты за демон?[2] – осведомился мужчина.
– Я не демон, – ответил Клозовски. – Я просто заблудился в бурю.
– Он священнослужитель, Исидро, – сказала женщина.
– Слава богам, – выпалил мужчина. – Мы спасены. Изгони этих демонов, и я прослежу, чтобы ты был щедро награжден.
Клозовски решил не сообщать им, что одолжил облачение на время. Он видел снаружи свет, но никаких демонов не было.
– Это Исидро д'Амато, – сообщила женщина, – из Мираглиано. А я Антония.
– Александр, – представился Клозовски.
Антония была не так напугана, как д'Амато, и лучше способна справиться с ситуацией. Он сразу понял, что она не из паразитов.
– Мы были в пути, когда налетела эта буря, – сказала она. – Потом вдруг эта вспышка, и карета опрокинулась…
– Демоны, – выдохнул д'Амато. – Это были демоны и монстры. Они пришли за… за…
Он заткнулся. Явно не хотел говорить, за чем, по его мнению, пожаловали демоны. Клозовски подумал, что если этого человека отмыть и обсушить, он был бы не очень похож на теперешнего Исидро д'Амато. Знакомое имя, он был уверен, что слышал его, когда жил в Мираглиано.
– Там, впереди, дом, – сообщила ему Антония. – Мы видели его за деревьями, пока еще не стемнело. Мы пытались добраться до него, укрыться от бури.
Совсем рядом сверкнула молния. Зубы Клозовски стучали, вторя громовым раскатам. Голубой шар рос, он уже был со всех сторон. Его свет одновременно успокаивал и клонил ко сну. Принц-революционер поборол соблазн. Кто знает, что может случиться, если он закроет глаза.
– Нам лучше попробовать добежать до него, – предложил он. – Мы не можем пережидать бурю здесь. Это опасно.
Д'Амато крепче прижал к груди саквояж, словно подушку, и не шелохнулся.
– Он прав, Исидро, – сказала Антония. – Этот свет что-то делает с нами. Надо идти. Тут всего несколько сотен ярдов. Там люди, огонь, еда, вино…
Она уговаривала его, будто ребенка. Он не хотел покидать карету. Ветер широко распахнул дверь, ударив ее о борт экипажа, и внутрь ворвался дождь, точно плеснули водой из ведра. В светящемся шаре теперь явственно угадывалось лицо, с длинным носом и щелями глаз.
– Пойдемте.
Клозовски потянул Антонию за руку, и они выбрались из кареты.
– Но Исидро…
– Он может оставаться, если хочет.
Он повлек женщину прочь от сломанного экипажа, и она не особенно противилась. Не успели они сделать и десяти шагов, как д'Амато высунул голову в дверь, пулей вылетел наружу и припустил бегом, по-прежнему крепко обнимая саквояж.
Он был толстяк, не слишком-то легкий на ногу, но с энтузиазмом шлепал по грязи, пока не пошатнулся, и Клозовски с Антонией удалось подхватить его прежде, чем он упал. Он высвободился, стараясь держать подальше от них свой саквояж. Это явно была его любимая игрушка.
– Туда, – указала Антония.
Дорога плавно шла вверх и поворачивала. Клозовски ничего не смог разглядеть в сырой мгле.
– Это огромный дом, – сказала она. – Мы увидели его за много миль.
Д'Амато стоял как прикованный к месту, уставившись в пустые глазницы голубого лица. Антония потянула его за локоть, пытаясь развернуть. Он помотал головой, и она дала ему пощечину. Сильно. Он встрепенулся и двинулся вслед за ними.
Они втроем пробирались впотьмах. Клозовски хотелось оглянуться, но он не стал этого делать. У него было такое чувство, что он никогда уже не отогреется.
Разглядеть что-либо отчетливо было невозможно, но твердая дорога под ногами была ничем не хуже любой другой.
– Они не смогут забрать его… – бормотал д'Амато. – Оно мое, мое…
Холодная вода затекла Клозовски между глазами и веками, внутри черепа застывал лед.
– Смотрите! – воскликнула Антония.
С одной стороны дороги показалась стена, частью вырезанная в горном склоне, частью сложенная из огромных каменных блоков. Они стояли теперь возле громадных железных ворот, ржавых и перекошенных. Они легко могли бы пробраться внутрь между прутьями. Впереди темнели очертания огромного дома, в нем мелькали неяркие огни.
Клозовски стоял позади всех и смотрел на ворота. Должно быть, богатое поместье. Здесь, наверно, живет семейка представителей паразитирующего класса, сосущая жизненные соки из крестьян, попирающая сапогами угнетенные массы.
На верхушке ворот в завитках орнамента виднелось какое-то слово. Это было название поместья и, скорее всего, имя рода.
УДОЛЬФО.
Клозовски никогда не слышал о нем.
5
Молва о дуэли дошла до Шедони, тестя Равальоли и сына Старого Мельмота, и его неодобрение нависало над обеденным столом, подобно болотному газу. Старик, слывший в минувшей около века назад юности признанным распутником, сидел во главе стола. Он ждал, когда унаследует от своего прикованного к постели отца право возглавлять семью.
Рядом с ним были пустое кресло и прибор, которые всегда ставили для его больной жены Матильды, которой Женевьева ни разу не видела, а рядом расположились двое чужаков, от которых в наибольшей степени зависело все семейство – адвокат Ватек и доктор Вальдемар. Оба жили в Удольфо вечно, и оба приобрели фамильные черты – вытянутые лица и глубоко посаженные глаза. Вальдемар был почти лысый, если не считать три изысканнейшие пряди волос, заботливо приклеенные к голой, сверкающей коже черепа. У Ватека же волосы были настолько густые, что казалось, будто его глаза выглядывают из клубка черной шерсти.
Временами поговаривали, что Ватек или Вальдемар – это либо давно исчезнувший брат Шедони, Монтони, предполагаемый дед Пинтальди, либо результат адюльтера или кровосмесительной связи Шедони в пору его бурной молодости. Ни один из этих слухов никогда не был ни подтвержден, ни опровергнут.
Ватек и Вальдемар ненавидели друг друга со страстью, превосходившей любое чувство, на которое была бы способна Женевьева, и каждый ничуть не сомневался, что другой постоянно плетет против него интриги, желая его смерти. В данный момент излюбленным орудием убийства считался яд, и на протяжении недель ни один из них не притрагивался к пище, в происхождении которой был хотя бы чуть-чуть неуверен. Адвокат и врач взирали друг на друга поверх тарелок, наполненных мясом с картошкой, и каждый безмолвно подначивал другого набить рот пищей, возможно, отравленной. Ватек обладал статусом опекуна над завещанием, но в задачу доктора Вальдемара входило продлить жизнь Старого Мельмота до тех пор, пока оно не будет окончено и подписано.
Старому Мельмоту, который из своей спальни все еще правил этим королевством, было хорошо за сто двадцать, и дни его намного продлились против предполагаемого благодаря доктору Вальдемару, много лет путешествовавшему по Катаю, Лустрии и Темным Землям в поисках магических компонентов, необходимых для продления жизни. Ее тетка говорила, что он богохульник и колдун. Но Старый Мельмот был все еще жив, хихикая над каждой новой интригой в развертывающейся перед ним саге о его семье.
На другом конце стола Равальоли, сидящий напротив Пинтальди, щедро наливал себе вина в бокал, а его жена Фламинея с неодобрением наблюдала за ним. Она была последней из приверженцев давно дискредитировавшего себя «Крестового Похода За Нравственность» Клея Глинки и по большей части осуждала земные наслаждения. В семье должен был найтись кто-то, чтобы критиковать ее нравственность, и Фламинея назначила на эту роль себя, используя любую возможность выказать свое негодование. Несколько месяцев назад она с молотком в руках ополчилась на неприличные скульптуры в висячем саду и уничтожила, во имя благопристойности, немало бесценных и невосстановимых произведений древнего искусства. После этого, естественно, завещание было самым суровым образом пересмотрено в том, что касалось ее интересов, и ее священный пыл на время поугас. Равальоли, еще задолго до этого переставший делить с женой ее комнаты, демонстративно отхлебнул преувеличенно большой глоток, подержал вино во рту и удовлетворенно вздохнул, когда оно просочилось в горло. Тетушка Фламинея неодобрительно хмыкнула и принялась ловко и безжалостно кромсать мясо на крохотные кусочки зазубренным столовым ножом.
Женевьева сидела рядом с пустым креслом, принадлежавшим Фламинео. До своей неожиданной гибели он был ее отцом и братом Фламинеи. По ее другую руку стояло похожее на трон сооружение, украшенное затейт ливой резьбой, которой Фламинея явно не одобряла, а на нем восседал упитанный дядя ее отца, Амброзио, монах Ранальда, которого выгнали из ордена Бога Мошенников за то, что у него было слишком много пороков. Она придвинула кресло вплотную к месту покойного отца специально, чтобы ее незащищенное колено и бедро оказались подальше от вороватых пальцев Амброзио.
На расстоянии десяти футов, через стол, сидели красавчики-близнецы Юный Мельмот и Флора, десятилетние отпрыски Пинтальди от женщины, едва ли имевшей человеческое происхождение, поскольку уши у них были слегка заостренные. Их кудрявые волосы рассыпались по тонким изящным плечикам. Близнецы редко разговаривали, приберегая слова друг для друга. Они уже закончили есть и сидели тихо, робко и совершенно одинаково хлопая глазами.
Довершала собравшуюся за обедом компанию Кристабель, дочь Равальоли и Фламинеи, настолько же смуглая, насколько Женевьева была светловолосой и светло-кожей. Она сидела с другой стороны от Амброзио, сжав вилку, готовая пресечь любые исследовательские поползновения толстого монаха. Она получила образование в Империи, в Академии Нулна, и недавно вернулась в Удольфо, шокируя мать манерами, которым, похоже, научилась за время пребывания вне стен родимого поместья. Однажды во время спора о том, кому принадлежит шляпка, Кристабель зловеще сообщила Женевьеве, что взяла курс уроков у Валанкорта, мастера фехтования, и будет счастлива продемонстрировать свое умение. Женевьева знала также, что ее кузина была страстной поклонницей неких корешков и часто предпочитала унестись из холодных, голых стен Удольфо в наркотические мечты. Сейчас она ела вяло, движения рук были не совсем скоординированы, и Женевьева подозревала, что она уже успела пожевать свой корешок.
Женевьева обвела взглядом весь стол. Трудно было проследить связи внутри ее семьи, запомнить, в каком они родстве с нею и друг с другом. Порой они менялись, и родственник, которого она считала дядей, оказывался ее кузеном, а кузина могла стать племянницей. Все зависело от дополнений к завещанию, которые меняли все.
За высокими окнами вспыхнул зигзаг молнии.
Одо Жокке, дворецкий, выступавший в роли главного лакея, командовал тремя служанками – Лили, Миррой и Таньей, – подававшими на стол блюдо за блюдом. Жокке был семи футов ростом, с широкими плечами, которые годам лишь теперь удалось согнуть. Он служил капитаном гвардии Удольфо во время последней крупной семейной войны, когда брат Старого Мельмота, ныне покойный некромант Отранто повел в атаку на поместье демонов и мертвецов.
Жокке был ранен когтями демона Слаанеши. Лицо его наискось пересекали три глубоких шрама, нос свернут набок, губы порваны, глаза, казалось, пристально смотрят из-под складок мертвой кожи похожего на маску лица. Голос из него вырвали тоже, но он все же был человеком весьма способным, и Старый Мельмот доверял ему больше, чем даже Ватеку и Вальдемару. Никто не сомневался, что Жокке по завещанию будет назначена пенсия.
Женевьеве не хотелось есть. Пережаренное мясо было насквозь серым, а овощи ее не интересовали, особенно серовато-белый картофель с черными глазками, растущий на здешнем огороде. Она отпила немного красного вина, не обращая внимания на убийственные взоры Фламинеи, но оно лишь обожгло ей нёбо. Она жаждала, но не вина, хотела есть, но не пережаренную говядину…
За едой обычно не разговаривали. Звяканье ножей и вилок по тарелкам сопровождалось неистовым стуком дождя да однообразным крещендо грома.
Буря взволновала Женевьеву, пробудила в ней охотничий инстинкт. Ей хотелось оказаться на воле, утолить свою жажду.
Служанки убрали нетронутое ею главное блюдо, и наступила пауза. Жокке дал сигнал, и на одобрение Шедони были представлены очередные бутылки с вином. Тот сдул пыль с этикетки, закашлялся и кивнул.
– Я не уверена, что невинным детям следует видеть это пьянство и распущенность, папа, – отрывисто бросила Фламинея, с поджатыми губами жадно пережевывая кусочки мяса. – Мы же не хотим вырастить еще одно поколение сибаритов и распутников.
Флора и Юный Мельмот переглянулись и заулыбались. У них были крошечные острые зубки и почти миндалевидные глаза. Женевьева видела, как они забавляются с местными кошками, и никак не могла думать о них как о невинных младенцах.
Она пригубила вино.
– Ты видишь, – не унималась Фламинея, – моя племянница уже катится на дно, хлещет вино, и это в столь нежном возрасте, носит шелка и атлас, чтобы возбуждать похоть в этих ужасных мужчинах, без конца расчесывает свои длинные золотистые волосы. Разложение уже затронуло ее. Возможно, пока вы этого не видите, но пройдет немного времени, и это проявится на ее лице. Еще шестнадцать лет, и ее лицо станет порочным и ужасным, как…
Раздался особенно сильный громовой раскат, и Фламинея воздержалась произнести имя. Шедони уставился на нее, и она съежилась в своем кресле. Взгляд отца заставил ее закрыть рот.
Женевьева слышала, что ее бабушку ужасно обезобразила болезнь, и что она всегда носит вуаль, влача жалкое существование в своих комнатах и дожидаясь последнего поцелуя Морра.
Женевьева подняла кубок за здоровье тетушки и осушила его. Вино было безвкусным и пресным, как дождевая вода.
Амброзио выказал некоторый интерес, когда разговор зашел о предмете его пламенного вожделения, его заплывшее, в багровых прожилках лицо задрожало, он облизнул губы, рука его под столом легла на верхнюю часть бедра Лили, служанки, наливавшей ему вино. Расплывшись в улыбке, он полез еще выше, и Лили никак не отреагировала на знаки внимания, которые он ей оказывал. Изо рта клирика потекла тоненькой струйкой слюна. Он смахнул ее пальцем.
Шедони пил и разглядывал членов семьи и слуг. Его лицо казалось лекалом, по которому были изготовлены все остальные за этим столом, даже красотка Кристабель. Но еще до Шедони этот длинный нос и глубоко посаженные глаза принадлежали Старому Мельмоту. А до Старого Мельмота были поколения рода Удольфо, вплоть до отца Смарры, Черного Лебедя. В доме есть портрет пирата, стоящего на палубе своего корабля и наблюдающего за казнью капитана из Аравии, и у него тоже фамильные черты Удольфо. Наверно, он и есть основатель линии, подумалось Женевьеве. До пирата семьи не было. Именно его краденое счастье создало династию.
Равальоли и Пинтальди тихо спорили, их старая ссора разгоралась вновь, и угрожающе размахивали столовыми ножами. Однажды Пинтальди закончил спор тем, что воткнул в горло Равальоли вертел в перерыве между мясным блюдом и дичью, а потом, для пущего бахвальства, столовой ложкой выковырял противнику глаза. Равальоли не забыл и не простил этого.
– После обеда я буду играть на клавесине, – объявила Кристабель.
Никто не возражал.
Кузина Женевьевы выучилась музыке в Нулне, у нее был приятный, хотя и не выдающийся голос. В Академии она также начала было познавать силу собственных чар и, естественно, чувствовала себя ужасно разочарованной, оказавшись после имперского общества вновь в Удольфо, где возможности разбивать сердца были жесточайшим образом ограничены. После того как она довела до самоубийства Праза – лесника, никто больше не страдал по ее иссиня-черным волосам, влажным глазам и шелковистой коже. Большую часть времени она проводила, слоняясь по полуразрушенным крепостным стенам Удольфо в хлопающих на ветру, похожих на саван одеяниях, раздражаясь и интригуя, пытаясь приручить ворон.
– В Нулне мою игру часто хвалила графиня Эммануэль фон Ли…
Похвальбу Кристабель прервали вспышка молнии и удар грома. И еще какой-то грохот. Сразу стало холодно и сыро. Все в огромном зале повернулись к окнам от пола до потолка, распахнувшимся под порывом ветра. Дождинки ворвались в зал, словно заряд дроби, и обожгли Женевьеве лицо. Ветер взвыл, и свечи, расставленные по центру стола, замигали и погасли. С шумом отодвигались кресла, Фламинея вежливо и негромко пискнула от страха, и ладони легли на рукояти мечей.
Было темно, но Женевьева видела всех. Ее глаза в темноте были зоркими. Она видела Жокке, медленно, как во сне, идущего через зал, тянущегося за фонарем. Одна из служанок боролась с открытым окном, пытаясь захлопнуть его. Ветер и дождь прекратились, и снова появился свет, когда Жокке подкрутил фитиль. Возле огромного кресла Шедони стояли незнакомцы, с которых капала вода. Пока окна были открыты, кто-то вошел в зал.
6
Компания выглядела унылой, в траурных одеждах, с вытянутыми лицами, а зал – едва освещенный и пыльный, стены его поверху заросли грязью и паутиной.
Некоторые из обедающих и на живых-то были не похожи, и все без исключения отличались нездоровой бледностью, словно прожили всю жизнь в этом сумраке, никогда не выходя на солнечный свет. Однако среди них были две хорошенькие девушки, бледная гибкая блондинка и роскошная темноволосая красотка. Они немедленно возбудили революционный интерес Клозовски. Оказавшиеся, подобно Олимпии и Джульетте, в западне традиций и обычаев своего класса, они могли бы с восторгом ступить на путь истины.
– Мы заблудились, – объяснил он. – И вышли на ваш огонек.
Никто ничего не ответил. Все уставились на вновь прибывших голодными взглядами.
– Там, снаружи, буря, – непонятно зачем добавила Антония. – Дорогу размыло.
– Они не могут остаться, – слабо прокаркала тощая пожилая женщина. – Чужаки не могут оставаться здесь.
Клрзовски это не понравилось.
– Нам некуда больше деться. Не осталось ни одной сносной дороги.
– Это будет против его воли, – сказала женщина, глядя на прячущийся в тени потолок. – Старый Мельмот не потерпит посторонних.
Они все думали об этом, глядя друг на друга. Во главе стола сидел древний старик в ореоле вьющихся, будто пух хлопчатника, белых волос. Клозовски решил, что он тут главный, хотя не похоже было, что это тот самый Старый Мельмот. Подле него стоял высокий слуга с лицом в шрамах, типичный представитель тех, кто предает свой собственный класс и помогает аристократии держать своих же братьев и сестер в цепях.
Опасная скотина, судя по его росту, ширине плеч и по размеру поросших волосами рук. И все же лицо его свидетельствует, что, по крайней мере, один раз в жизни он свою схватку проиграл.
– Умолкни, Фламинея, – бросил старик женщине. – У нас нет выбора…
Некоторые мужчины в компании обнажили мечи, словно ожидали нападения разбойников или чудовищ.
Клозовски заметил выраженное фамильное сходство. Длинные носы, ввалившиеся глаза, отчетливо выступающие скулы. Он вспомнил о призрачном лице среди голубого света и подумал, что, возможно, для них было бы лучше попытать счастья в бурю.
– Послушайте, – заговорил д'Амато, который, казалось, по мере высыхания увеличивался в размерах. – Вы должны приютить нас. Я важный человек в Мираглиано. Исидро д'Амато. Спросите любого, вам подтвердят. Вы будете вознаграждены.
Старик презрительно взглянул на д'Амато.
– Сомневаюсь, чтобы вы могли вознаградить нас, сударь.
– Ха, – бросил д'Амато. – Я человек не без средств.
– Я Шедони Удольфо, – сказал старик, – сын Мельмота Удольфо. Это богатое поместье, отягощенное таким состоянием, которое вы не в силах даже вообразить. У вас не может быть ничего, что мы могли бы пожелать.
Д'Амато отступил назад, к очагу размером с конюшню, в котором горели деревья целиком, и огляделся. На фоне очага он казался меньше и продолжал цепляться за свой саквояж, будто в нем было заключено его собственное бьющееся сердце. На него, с его типично буржуазным лицемерием, произвела сильное впечатление болтовня о «невообразимых богатствах».
Клозовски вспомнил, где он слышал про д'Амато. Мираглиано, морской порт, построенный на множестве островов в соленом болоте, был богатым торговым городом, но страдал от нехватки питьевой воды. На караванах, доставлявших пресную воду, и на сооружении каналов сколачивались целые состояния, и д'Амато был главным торговцем водой в городе, создавая собственную империю, выдавливая из бизнеса конкурентов. С год назад или около того он установил почти полный контроль над городскими запасами пресной воды и мог теперь утроить цены. Отцы города протестовали, но вынуждены были сдаться и платить ему.
Он в самом деле был влиятельным человеком. Но потом пришла желтая лихорадка, и прорицатели обвинили во всем зараженную воду. Это объясняло, почему д'Амато покинул свой дом…
Шедони подал знак громадине со шрамами.
– Жокке, – сказал он, – принеси еще кресла и горячего вина с пряностями. Наши гости рискуют замерзнуть до смерти.
Клозовски подошел как можно ближе к огню и почувствовал, как подсыхает на нем одежда.
Антония скинула насквозь промокшую шаль и приподняла тонкие юбки, чтобы обсушить ноги. Клозовски заметил, что, по меньшей мере, один из клана Удольфо весьма интересуется этим спектаклем, дряблый старикан в маленькой шапочке жреца и с похотливым блеском в глазах.
Антония весело рассмеялась и сделала несколько танцевальных па.
– Я порой бываю танцовщицей, – сказала она – Правда, не очень хорошей.
Ноги у нее были красивые, с крепкими мускулами.
– Доводилось бывать и актрисой. Которую убивают в конце первого действия…
Она высунула язык и свесила голову набок, словно у нее сломана шея. Ее блузка прилипла к коже, не оставив у Клозовски никаких сомнений относительно ее профессионализма.
Д'Амато засуетился вокруг Антонии, заставляя ее опустить влажные юбки и прикрыть ноги.
– Прошу прощения, – заявила она. – Куплено и оплачено, это про меня. Повелитель Воды имеет эксклюзивные права на все спектакли.
Она сказала это очень весело, но д'Амато явно был смущен дерзостью своей игрушки.
– Распутство – это путь к Хаосу и адовым мукам, – провозгласила ссохшаяся старая брюзга. – Этот дом всегда был наводнен проститутками и падшими женщинами с размалеванными щеками и ужасным смехом. Но теперь все они мертвы, а я, благочестивая и смешная Фламинея, я все еще тут. Они имели обыкновение смеяться надо мной, когда я была еще девчонкой, и спрашивать, уж не сберегаю ли я свое тело для червей. Но я жива, а они все уже сгнили.
Клозовски сразу определил для себя Фламинею как унылую маньячку. Она, казалось, получала изрядное наслаждение, рассуждая о смерти других, так что она-таки не лишала себя уж вовсе всех земных удовольствий.
Громила отыскал ему местечко за столом, рядом с усатым щеголем, который не мог нормально держать голову.
– Я Пинтальди, – представился молодой человек.
– Александр, – сообщил в ответ Клозовски. Пинтальди потянулся за свечой и поднес ее поближе. Клозовски ощутил на лице тепло пламени.
– Обворожительная это штука – огонь, – сказал Пинтальди. – Я изучал его. Знаете, они все неправы. Он не горячий, он холодный. И языки пламени действуют безупречно, как острые ножи. Они уничтожают зло и оставляют добро. Языки пламени – это пальцы богов.
– Очень интересно, – отозвался Клозовски, отхлебнув вина, налитого ему Жокке.
Вино обожгло ему горло и согрело изнутри. Фламинея сверкнула на него глазами, словно он в ее присутствии стал грязно приставать к ребенку.
– Вы служитель Морра, – сказало волосатое существо, сидящее рядом со старым Шедони. – Что вы делаете здесь в бурю?
Клозовски на миг был сбит с толку, потом вспомнил про взятое взаймы облачение.
– Ну, смерть есть везде, – ответил он, выставляя напоказ свой тоже позаимствованный амулет.
– Смерть везде, – подхватил волосатый. – Особенно здесь. Конечно, ведь именно в этом зале так часто возникают лишенные туловища призрачные руки Дворецкого-Душителя и сжимают глотки излишне доверчивых гостей.
Д'Амато закашлялся и выплюнул вино.
– Лишь тем, кто повинен в каком-нибудь тяжком преступлении, следует опасаться Дворецкого-Душителя, – сообщил любитель фольклора. – Он навещает только преступников.
– Приношу свои извинения, – сказал Шедони. – Мы старинный род, и наша кровь становится все жиже. Изоляция сделала нас эксцентричными. Вы, должно быть, считаете нас странными?
Все посмотрели на Клозовски, казалось, их запавшие глаза светятся голубым в полумраке.
– О нет, – ответил он, – вы так радушны. Отличаясь этим в лучшую сторону от того последнего из знатных домов, в котором мне случилось гостить.
Это во многом было правдой, хотя Клозовски и подозревал, что Жокке мог бы поделиться кое-какими умениями даже с самим Танкреди. Во всех этих аристократических гнездах имеется собственный карманный убийца.
– Вы должны остаться на ночь, – сказал Шедони. – Дом большой, и комнаты для вас найдутся.
Клозовски прикидывал, как долго он сможет поддерживать этот обман. Со времени Великих Туманных Бунтов его имя стало символом восстания. Если семейке Удольфо станет известно, что он принц Клозовски, поэт-революционер, его, наверно, просто вышвырнут в окно. А дальние окна зала как раз выходят на узкое глубокое ущелье. Лететь придется футов семьсот-восемьсот прямиком на острые скалы.
Пинтальди теперь ухватил канделябр и поднес ладонь к самому огню.
– Смотрите, – сказал он. – Просто обжигает холодом.
Кожа его почернела, отвратительно запахло горелым мясом.
– Блудницы будут гнить, – повторила Фламинея. Клозовски взглянул через стол на красивую юную девушку. Она сидела тихо и ничего не говорила, скромно опустив глаза. Она не походила на Удольфо, и все же явно была частицей этой нелепой коллекции. Губы ее не были накрашены, и все же ярко-алые, а под ними белые острые зубы. Она подняла глаза и встретилась с ним взглядом. На вид ей было около шестнадцати, но ясные глаза казались древними.
– А без них какое же веселье на этом свете? – спросила Антония.
Фламинея погрозила танцовщице костлявым кулаком и выплюнула на тарелку кусок хряща. На подбородке женщины пробивалась борода, волосы ее были жидкими и седыми. Антония, обсохнув, так и светилась здоровьем, будто наливное яблочко, и являла собой разительный контраст с этой чахлой компанией.
– Я буду играть на клавесине, – сообщила смуглая девушка, сидящая рядом с жирным жрецом.
Шедони кивнул, и девушка поднялась и грациозно прошла через зал к инструменту. На ней было что-то длинное и облегающее, вроде савана, только черное. Клозовски вновь ощутил тепло, но почему-то холод все равно не отпускал его.
7
Пока Кристабель играла, Женевьева разглядывала чужаков. Что-то в них тревожило ее. Она видела, как Амброзио сжал губы, когда Антония показывала свои ноги. Чувствовала странную враждебность между служителем Морра и торговцем из Мираглиано. Эти люди не выбирали друг друга в попутчики. И обоим было что скрывать.
Она представила себе путешествие, экипажи, пересекающие весь Старый Свет, от Эсталии до Бретонии, от Империи до Кислева. Там великие города – Парравон, Альтдорф, Мариенбург, Эренград, Жубар, там неведомые дальние страны – Катай, Лустрия, Ниппон, Темные Земли. Она уже верила, что всю жизнь провела в Удольфо, никогда не покидая его стен, такая же его пленница, как больная Матильда или сын-мутант Равальоли и Фламинеи, который, по слухам, был заточен в подвале и ел исключительно человеческое мясо.
Все, что она могла вспомнить, – это Удольфо, да и то не слишком подробно. В ее памяти зияли крупные прорехи. И все же порой к ней приходили образы вещей, которых она никогда не знала.
Кристабель играла странно, позволяя наркотическим мечтам сочиться наружу, пока она украшала завитушками мелодию знакомой пьесы. Узел ее черных волос распустился, когда она встряхивала головой в такт своей варварской музыке.
Эта музыка растревожила Женевьеву еще больше. В душе она была хищницей, разрывающей горло своим жертвам, вонзающей зубы в их плоть, захлебывающейся их восхитительной кровью, капающей по ее подбородку, стекающей на грудь.
Ее ногти заострились, зубы шевельнулись во рту, меняя форму…
В памяти ее толпились и другие видения. Лица, имена, места, события. Она чувствовала то, чего не могла знать. Она помнила толпу, атакованную невидимой силой, и поцелуй смуглого красивого мужчины, изменившего ее жизнь. Помнила царственную женщину, чье лицо и руки покраснели от крови, в платье давней эпохи. Помнила железные наручники и цепь, которыми она была прикована к мужчине с грубым лицом, и ночь на постоялом дворе. Помнила, как дважды ездила в замок, чтобы встретиться лицом к лицу с Великим Чародеем. Помнила театр и замечательного актера, и свое бегство от него, из его города. Помнила существо с туловищем осьминога и человеческими глазами. Все это было больше чем сны, и все же Женевьева знала, что они никак не связаны с той жизнью, которой она жила, тихой, уединенной, забытой жизнью в этом замке.
Плечи Кристабель вздымались, пот скатывался с ее лица.
Фламинея время от времени что-то бормотала. Музыка представлялась ей чем-то страшно греховным, и она отвергала талант дочери. Время от времени Кристабель убивала свою мать, выдавливая из нее жизнь шелковым шарфом или разбивая голову камнем, вытащенным из стены дома.
Порой, когда Фламинея впадала в праведный гнев, бывало наоборот, и она объявляла свою дочь ведьмой и спокойно наблюдала, как деревенские жители волокут ее на костер, а Пинтальди любовно раздувает пламя.
Жрец Морра смотрел на нее. Он был чужаком, и ей не верилось, что он на самом деле служитель культа. Даже в Амброзйо было нечто, наводящее на мысль о святом ордене, и не важно, сколько раз его руки забирались под юбки или за корсаж. Александр не принадлежал к тем, кто готов склониться перед каким бы то ни было богом и человеком тоже.
А может, он слишком хорош собой, чтобы дать Морру обет безбрачия?
Гость скинул капюшон, обнажив горло. Она видела нежную голубую жилку, теряющуюся во взъерошенной, все еще мокрой бороде, и ей казалось, что она видит, как бьется его пульс.
Женевьева облизнула губы пересохшим языком.
8
«Странная семейка», – решила про себя Антония Марсиллах, и не ошиблась. В тысячный раз она спрашивала себя, не умнее ли было остаться в Мираглиано и отдаться на милость отцов города. Она не имела никакого отношения к этой проклятой зараженной воде Исидро и подозревала, что он взял ее с собой в шикарное убежище в Бретонии лишь потому, что она много чего знала о той бездумной небрежности, с которой он извлекал личный доход ценой общественной безопасности. Ей следовало отречься от этой свиньи и еще потребовать вознаграждение, вместо того чтобы бежать с ним. От него никакого проку, да никогда и не было. Даже когда дела шли хорошо, его больше интересовала контора, а не спальня. Ей следовало вернуться на сцену и попробовать пробиться из статисток на главные роли. Она может играть получше некоторых, танцевать – лучше многих, и клиентам всегда нравились ее ноги. Она еще молода. Ей хочется веселья.
А здесь она оказалась в компании персонажей, будто бы сбежавших из какого-нибудь спектакля – из тех, что шли в театре Мираглиано и были запрещены отцами города как «слишком мерзкие и способные вызвать общественные беспорядки». До того, как их запретили, она участвовала в каждом из них, отплясывая в прологе и погибая во время первого же действия. Это и «Иштарет» Британа Крэгга, и «Демон чумы и небылицы Орфео», и «Судьба Сарагосы», и «Предательство Освальда», и «Странная история доктора Зикхилла и мистера Хайды» Детлефа Зирка, и потрясающий «Храбрый Конрад и череп-убийца» Ферринга-стихотворца, и непристойное «Совращение Слаанеши, или Пагубные страсти Диого Бризака» Бруно Малвоизина. Во всех этих пьесах присутствовали темные штормовые ночи, усталые путники, которым требовался ночлег, старые карги-ханжи, семейные проклятия, потайные ходы, многократно изменяемые завещания, вурдалаки, гоблины и призраки.
И теперь она оказалась во всех них сразу, продвинувшись с массовки до главной роли. До конца первого действия ей следует поостеречься.
Ведьма, колотившая по клавесину, старалась перекрыть раскаты грома, тетка-шлюхоненавистница пускала слюни в приступе благочестивой истерии, а жрец Ранальда украдкой заглядывал ей в вырез платья, когда думал, что этого никто не видит.
Шедони выглядел достаточно любезным, но Антония не была уверена, что он еще жив. Она подозревала, что он мог оказаться просто привязанным к креслу трупом, который дворецкий со шрамами использует в качестве куклы чревовещателя. Она обвела взглядом огромный зал, гадая, где тут начинаются потайные ходы.
Равальоли, муж старой карги, все еще продолжал есть, в то время как вниманием остальных завладела его угрюмая дочь. Он ел шумно, грязно, на столе вокруг него во множестве валялись кусочки еды.
Антония устала, она предвкушала, что впереди ее ждет большая, теплая, чистая постель, в которой не будет Исидро д'Амато.
Подали эсталианский херес, и он согрел ее изнутри. Одежда высохла прямо на теле, и Антония отказалась от мысли раздеться и вытереться ею. Может, удастся отыскать опытные руки, которые смогут ей помочь. Александр казался довольно подходящим для этого, и отец Амброзио, без сомнения, был бы счастлив предложить свои услуги.
Она не столь уж замечательная танцовщица. Но у нее имеются другие таланты. Она всегда могла отыскать где бы то ни было удобное местечко. Всегда. Жокке налил ей еще хереса. Она чувствовала, что опьянела.
Равальоли отправил в рот полную ложку какой-то ароматной каши, острой или сладкой, Антония не поняла. Он с причмокиванием проглотил ее и потянулся за следующей.
Потом он замер, и его щеки надулись, как будто он разжевал жгучий перец. Лицо его покраснело, вены на висках вздулись и побагровели. Из глаз потекли слезы, пропадая в морщинах на щеках.
Обеими руками он хлопнул по столу, обрызгав кашей все вокруг. Кристабель продолжала играть, но все остальные уставились на страдальца.
Равальоли схватился за горло и, казалось, отчаянно пытался что-то проглотить.
– Что такое? – спросил Шедони.
Равальоли затряс головой и встал. Его кадык ходил ходуном, он с трудом дышал. Глаза, налившиеся кровью, перепуганные, широко раскрылись.
– Справедливость, – проворчала Фламинея, – вот что это такое.
Жокке пытался помочь мужчине, поддерживая его и предложив бокал воды.
Равальоли выглядел хуже, чем отравленный посланник в пьесе Сендака Миттеля «Лустрианская измена, или Я съем их потроха!», когда тому сказали, что восхитительную требуху со специями, которую он только что съел, вынули из его обожаемой бабушки, причем еще при ее жизни.
Равальоли оттолкнул слугу, но решительно набрал полный рот воды. Он глотнул, и затычка, застрявшая в его горле, провалилась в желудок. Он залпом допил остатки воды и, смеясь, потянулся за хересом.
– Что это было? – спросил Шедони.
Равальоли пожал плечами и улыбнулся, смахнув с подбородка слюну:
– Как будто маленький металлический шарик. Понятия не имею, ни откуда он взялся в каше, ни что это такое. Он был обмазан чем-то липким.
Потом он схватился за живот, по телу его пробежала судорога.
– Больно…
Равальоли задрожал, словно у него начинался приступ. Он схватился за край стола и стиснул зубы.
– Жжет внутри… все больше… горячо…
Вдруг он откинулся назад, и слышно было, как его спина ударилась о спинку стула. Его вздувшийся живот вылез из-под крючков камзола и оголился.
Кристабель перестала играть и повернулась на табурете взглянуть на устроенную ее папашей суматоху.
Жокке попятился от бьющегося в конвульсиях человека, и остальные отодвинули свои кресла, чтобы освободить ему место. Глаза его закатились. Живот выпятился, как у беременной, готовой вот-вот разрешиться тройней. На коже появились красные растяжки. Равальоли стонал, и внутри него так шумело, как будто там что-то ломалось и рвалось.
Антония не могла отвести от него взгляда.
С дьявольским хлопком живот Равальоли лопнул. Вокруг него дождем посыпались ошметки плоти, кресло под ним развалилось.
Струйка голубого дыма, закручиваясь, выплывала из зияющей посредине живота дыры.
Кто-то визжал, визжал, визжал…
…и Антония поняла, что это визжит она.
9
Это было омерзительно!
Клозовски вытер рукав салфеткой и любовался всеобщей паникой. Д'Амато утихомирил Антонию с помощью чуть более энергичной, чем требовалось, пощечины, и танцовщица в ужасе откинулась на спинку кресла.
Плешивый тип с кривыми ногами, сидевший рядом с Шедони, поспешно обошел стол, волоча фалды пыльного фрака по полу, и осмотрел труп синьора Равальоли, тыча в края развороченной раны костлявым пальцем.
– Хм, – изрек он. – Этот человек мертв.
Воистину этот врач обладал невероятной проницательностью.
– Какое-то взрывное устройство, полагаю, – добавил доктор. – Специально созданное, чтобы сработать внутри человеческого желудка…
Он взял вилку и покопался в месиве.
– О да, – заметил он, извлекая какой-то маленький сверкающий предмет. – Вот и осколок.
– Благодарю вас, доктор Вальдемар, – сказал Шедони. – Жокке, убери эту грязь и потом принеси нам кофе.
Клозовски поднялся и стукнул кулаком по столу. Звякнули ножи. Амброзио подхватил свой едва не опрокинувшийся кубок с вином, все еще полный.
– Вы, кажется, не понимаете, – начал революционер, – этот человек мертв. Убит.
– Да? – Шедони казался озадаченным его вспышкой.
– Кто-то же убил его.
– Несомненно.
– И вы не собираетесь искать убийцу? Позаботиться о том, чтобы он, или она, был наказан?
Жокке и еще двое слуг притащили старую штору, чтобы вынести на ней Равальоли, за ними явилась девушка с ведром и шваброй – привести в порядок ту часть зала, которая оказалась испачканной.
Шедони пожал плечами:
– Конечно, убийц всегда находят, всегда наказывают. Но сначала нам нужно закончить обед. Такому вульгарному событию, как всего лишь убийство, никогда не нарушить традиций Удольфо.
Все за столом, похоже, были согласны со стариком, и Клозовски опустился в кресло, чувствуя себя ужасно глупо. Это семейство не только уменьшенная копия паразитирующего класса, они тут все просто сумасшедшие.
Кристабель, негодуя, что смерть отца прервала ее сольный концерт, вернулась к столу и уселась на свое место. Амброзио схватил было ее за задницу, но она отбросила его руку.
Кресло Равальоли перевернули, его самого взгромоздили на полотнище и быстро завернули в него. Служанка затерла следы.
– Положите его в холодный погреб, – наказал доктор Вальдемар дворецкому. – Я потом продолжу обследование. Возможно, мы сможем выяснить еще что-нибудь.
– Может быть, наш гость благословит усопшего? – предложил адвокат Ватек.
Все посмотрели на Клозовски, и он подавил желание оглянуться.
Он все время забывал, что теперь служитель Морра.
Клозовски мямлил что-то и делал в воздухе пассы, смутно пытаясь имитировать жесты жрецов, которых видел на похоронах. Никто не задавал ему вопросов об этой пародии. Подали кофе в дымящихся посудинах.
– Я должен сообщить Старому Мельмоту, – заявил Ватек, обращаясь к Шедони. – Это повлияет на завещание. Равальоли был прямым наследником.
– Нет, не был, – бросила Фламинея между жадными маленькими глотками обжигающего черного кофе. – Это я прямая наследница.
Ватек поскреб заросшую щетиной щеку.
– Мой покойный муж женился на Удольфо. Я прямая наследница, разве не так, папа?
Шедони помотал головой, будто не в силах вспомнить.
– Я думала, что папа – дедушкин сын, – вмешалась Кристабель, – и что это вы, мама, вошли в семью благодаря браку.
– И у меня было такое впечатление, – подтвердил адвокат.
– Значит, у вас было неверное впечатление, – огрызнулась Фламинея. – Я всегда была наследницей. Отец Амброзио подтвердит, правда, дядя?
Амброзио, чье внимание было поделено между бедрами Антонии и грудями Кристабель, отнесся к вопросу со всей серьезностью.
– Я не дядя тебе, – заявил святой отец. – Я твой отец. Прежде чем посвятить себя Ранальду, я был женат на моей кузене Кларимунде. Ее похитили разбойники, и мы никогда больше о ней не слышали, но после нее у меня осталась дочь.
Рука Амброзио нырнула под стол, в направлении Кристабель. Он вздрогнул и снова извлек ее оттуда. Кристабель уже вооружилась своей вилкой.
– Дядя, ты ошибся, – сказала Фламинея. – Ты отец, но не мой отец. Ты же не можешь не признать, что Кристабель – твоя внучатая племянница, а не внучка.
Амброзио отхлебнул кофе, демонстрируя красные отметины от зубцов вилки на белой коже руки, и рассудительно произнес:
– Мне кажется, что Кристабель – сестра Пинтальди, разве не так?
– Кристабель? – переспросила Фламинея, и в глазах ее полыхнуло синее пламя.
Угрюмая девушка покачала головой и заявила:
– Для меня это не имеет значения.
Гром снаружи стих до негромкого рокотания через каждые несколько минут, и главным источником шума был теперь равномерный стук дождя по стенам и дребезжащим стеклам. Здесь, в Доме, у Клозовски начала болеть голова.
– Еще кофе? – любезно поинтересовался Шедони.
10
Она потеряла счет времени и не могла сказать, сколько лет находится в заточении. Ее жизнь до приезда в Удольфо осталась лишь далеким смутным воспоминанием. Она была замужем, казалось ей, и у нее были дети. Она жила в городе у моря, и ее муж служил моряком, а со временем стал владельцем корабля, собственной пароходной линии. Потом она отправилась в путешествие и попала во время одной из этих проклятых бурь в Удольфо.
Тюремщики называли ее Матильдой, но это было не ее имя. На самом деле ее звали…
Матильда.
Нет. Ее имя было…
Она не могла вспомнить.
Жокке, высокий человек с перекошенным лицом, который приносил ей еду, не мог говорить. Но с ним вместе часто приходил лживый сумасшедший старик по имени Шедони, и он всегда звал ее Матильдой. Он говорил, будто с ней произошли ужасные изменения, но у нее все было в порядке.
Она не жертва варп-камня. Она нормальная женщина.
Она попыталась поднять голову, но грузы, которые Жокке прикрепил к ее черепу, пока она спала, оказались слишком тяжелыми.
Она никогда не могла сказать, день на дворе или ночь, но всегда знала, когда на улице буря. Она слышала гром, и камни ее подвала становились сырыми, и на нее время от времени капала вода.
Она не знала, почему стала узницей. Сначала она просила отпустить ее, потом – объяснить. Теперь это было уже не важно. Они называют ее Матильдой и жалеют ее, но никогда не отпустят на свободу. Она умрет в этой комнате и будет похоронена под могильной плитой, на которой вырежут имя Матильды Удольфо. Такова ее судьба.
Однажды ей удалось утаить куриную косточку из принесенной ей пищи, она обгрызла ее, превратив в острый инструмент. Месяцами она царапала известковый раствор между камней, пытаясь высвободить глыбы побольше. Ковыряя своим костяным долотом, она прижималась головой к холодной стене, и часть ее лица расплющилась.
В конце концов, Жокке поймал ее. Она пыталась порвать ему вену на горле острой костью, но та лишь сломалась об его кожу. Он не стал наказывать ее за это нападение. Но с тех пор она ела и мясо, и птицу лишь в виде филе.
Она пыталась вспомнить своего настоящего мужа, настоящую семью. Но могла лишь представить лицо Шедони Удольфо и перечислить имена ее с ним совместных, как он постоянно повторял, детей: Монтони, Амброзио, Фламинея…
Она попыталась подняться, но не смогла. Голова была тяжелой, как пушечное ядро, а шея давно усохла.
Она могла выпрямить колени, могла согнуть их, но голова оставалась прикованной к полу.
Она ползла, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами, по полу, сбивая под собой ковер. Однажды Матильда выберется отсюда. И тогда они все пожалеют.
11
Жокке остановился и промычал, похлопав д'Амато по груди. Торговец водой пошатнулся, как от сильного удара.
Огромный дворецкий толкнул дверь. Та, конечно же, заскрипела. Жокке подтолкнул в нее д'Амато. Потом поднял свечу и двинулся по коридору дальше.
Клозовски не представлял, в какой части дома они теперь находятся. Они проделали долгий путь от главного зала по переходам и лестницам. Они могли быть и в подвалах Удольфо, и на самом верху одной из башен.
Они проследовали через заброшенную часть здания, и ему показалось, что Жокке чего-то побаивается, он слишком часто озирался вокруг, держась подальше от дыр в стенах и заколоченных комнат! Клозовски не хотелось даже думать о том, что могло бы напугать это здоровенное животное.
Это были гостевые комнаты.
Антония пыталась улыбаться и болтала с дворецким, задавая ему вопросы о семье и доме. Жокке добавил к мычанию несколько стонов.
– Это очень мне напоминает, – говорила танцовщица, – постоялый двор, погубленный демонами, из пьесы фон Диеля «Судьба прекрасной Флоренс, или Измученная и покинутая».
Они дошли до очередной двери, и Жокке пинком отворил ее. В камине пылал огонь, комната была обставлена в катайском стиле, с шелками и низкими столиками с фарфоровыми безделушками. Дворецкий указал пальцем на Антонию.
– Это моя? – переспросила она. – Спасибо. Выглядит очень мило. Очень уютно.
Комната Клозовски оказалась за следующей по коридору дверью, крохотная клетушка с голой койкой, единственной свечой и тонким одеялом. Очевидно, они сочли, что для клирика это в самый раз. Когда ему опять придется переодеваться в чужую одежду, он выберет что-нибудь, что обеспечит ему побольше удобства. Жокке захлопнул за ним дверь, и он остался один.
Здесь было узкое оконце, и в него равномерно стучал дождь. Клозовски выглянул в него, но за потоками воды ничего не сумел разглядеть.
Он стащил с себя облачение и скинул башмаки послушника. Ноги его по-прежнему покрывала лесная грязь. Остальная одежда после подземных казематов Зелучо превратилась в лохмотья. Он разделся, сорвав то, что осталось от брюк, и сдирая с груди и рук остатки рубашки. Возле его постели стоял таз с водой. Он вспомнил было про желтую лихорадку д'Амато, но рассудил, что здесь, в горах, они не стали бы покупать воду у такого кровопийцы. Им явно хватает дождей, чтобы наполнять собственные бочки. Он тщательно умылся и почувствовал себя лучше, чем когда-либо за последние месяцы.
Как ни странно, в комнате имелось зеркало в полный рост, единственный предмет роскоши среди аскетичной обстановки.
Он встал перед ним, обнаженный, и поднял свечу.
Тюрьма не пошла ему на пользу. Его запястья, щиколотки, спина и грудь были в синяках, на коленях и бедрах – подсохшие раны. Кости слишком явственно выступали под кожей, а лицо было скорее изможденным, чем романтически мрачным.
И все же это тяжелое испытание позади.
Затем его отражение в зеркале задрожало, начало расплываться, как будто гладь тихого пруда подернулась рябью. Рама подалась вперед, и зеркало открылось, будто дверь.
Клозовски попытался прикрыться полотенцем. Сердце его колотилось. Что-то вылезло из мрака позади зеркала и, ухватив за шею, потянуло его голову вниз.
12
Ничего не оставалось, как делать все самой. Ватек был слишком мягкотелым для таких дел. И, в любом случае, она никогда не доверила бы ему довести это до конца.
За месяцы, прошедшие с того времени, как она впервые соблазнила адвоката, Кристабель Удольфо узнала множество вещей. Она теперь знала, что завещание не одно, что существует много разных, взаимоисключающих завещаний. Старый Мельмот Удольфо менял свою волю ежедневно и настаивал на составлении все новых и новых бумаг. Некоторые он подписывал, некоторые отвергал.
Она тщательно оделась в обтягивающие бриджи для верховой езды и свободную блузу, потом натянула мягкие кожаные сапожки и потратила некоторое время на причесывание. Ватек дожидался ее, болтая ни о чем, вновь и вновь возвращаясь к плану. Он путался в деталях, но ее холодный ум помнил все.
Адвокат коснулся ее шеи и запустил тонкие пальцы ей в волосы. Она передернулась от отвращения, но подавила дрожь и мило улыбнулась ему в зеркале.
Ватек был мерзким существом, весь волосатый и вечно потеющий. Она уверена, что у него в роду имелось какое-нибудь животное. Свинья или медведь. Но он не отличался силой, ни физической, ни умственной, и легко поддавался влиянию.
Кристабель погладила поросшую мехом тыльную сторону его руки и потерлась об нее щекой.
Скоро с этим будет покончено. Скоро все богатства Удольфо будут принадлежать ей. Тогда она сможет выбирать любовников по своему вкусу. Александр, жрец Морра, гибкий и хитрый, представляется до некоторой степени интересным. И она слышала, как служанки толковали про гиганта, Одо Жокке, про то, что его мужское достоинство вполне пропорционально всему остальному. От этой слабой вспышки желания волосы ее встали дыбом.
Они затрещали от электрических разрядов и приподнялись, несколько шокируя Ватека. Он отдернул руку и попытался рассмеяться.
– Убедись, что прикончила его, – сказал он. – Ты должна быть уверена в этом.
Кристабель улыбнулась, натягивая перчатки для соколиной охоты. Они были из прочной кожи и пришлись ей по руке. Благодаря часам упражнений за клавесином и с рапирой у нее сильные руки.
После того как они разберутся с завещанием и найдут сокровища Черного Лебедя, ей надо будет заняться адвокатом Ватеком. Наверно, удастся организовать несчастный случай. Падение с южной стены. Встречу с волками.
Она поднялась. Девушка была выше, чем адвокат, и ему приходилось смотреть снизу вверх, чтобы встретиться с ней взглядом. В его улыбке сквозил страх. Он боялся того, что они собирались сделать, боялся ее…
Кристабель похлопала его по плечу.
Она продиктовала окончательное завещание, назвав себя единственной наследницей семейного особняка и состояния. Старый Мельмот, слепой дурак, подписал его, воображая, что это какая-то второстепенная деловая бумага. Все остальные завещания лежали, свернутые в рулоны, в кабинете Ватека, дожидаясь сожжения.
Мельмот не может дольше жить. Не сможет, если не будет настоев доктора Вальдемара, поддерживающих в нем жизнь.
Кристабель открыла комод и достала моток медной проволоки. Предполагалось, что она нужна для клавесина. Она отмотала кусок, держа моток перед самым носом Ватека. Глаза адвоката забегали.
Она согнула проволоку, и получилась петля около четырех футов длиной, а концы намотала на защищенные толстыми перчатками кисти рук.
Девушка туго натянула проволоку, и та распрямилась с мелодичным звоном. Подойдет.
– Я вернусь, – сказала она Ватеку и, шагнув в темный коридор, бесшумно направилась во тьме к комнатам доктора.
Совсем скоро она будет очень богата.
И тогда они все содрогнутся.
13
По крайней мере, хоть последний сюрприз оказался сравнительно приятным.
– Я знала, что где-то здесь должна быть потайная дверь…
Они жались друг к другу на его койке, но после недель в подземной тюрьме Клозовски не собирался жаловаться на тесноту. Антония была такая ласковая и опытная. Как танцовщица, она умела владеть своим телом. К ее ножным браслетам были прикреплены колокольчики, и они забавно позвякивали, когда ее ноги обвивались вокруг него, скрещиваясь у него на талии. У него болела шея, поскольку голова упиралась в спинку кровати, но приятное тепло тела Антонии, тесно прижавшегося к его телу, компенсировало все.
– Я осмотрела свою комнату и отыскала у камина какие-то рычаги. Мне не хотелось оставаться одной в этом месте.
Клозовски размышлял, сумеет ли обратить Антонию в свою веру. Она явно привязана к этому надутому буржую-эксплуататору д'Амато, но вряд ли ее привязанность так уж сильна. В конце концов, она ведь искала компании Клозовски.
– Ты же не настоящий священнослужитель, верно?
Он признал это. Она прижалась еще теснее, опустив голову ему на грудь.
– Я так и знала. Все на самом деле не те, за кого себя выдают.
– А ты действительно танцовщица?
– И актриса. Не сейчас, должна признать. Но была. Отцы города закрыли театр в Мираглиано, и мне пришлось думать, что делать дальше. А тут подвернулся Исидро, бездельник с набитой мошной…
– А как насчет д'Амато? Он тот, за кого себя выдает?
Она состроила недовольную гримасу.
– Он удирает от городских властей. Желтая лихорадка – его вина. Это он всех заразил.
Он оказался прав насчет торговца водой.
– Деньги – вот вся его забота, Александр. Деньги и то, что на них можно купить. Вещи вроде домов, и лошадей, и одежды, и статуй. Вещи вроде меня.
Она провела теплым коленом по его ноге, вновь возбуждая его.
– Не переживай, – сказала она. – Это же все признаки успешного ведения дел. Попытки продать себя никогда не приносили мне ничего, кроме неприятностей. Даже танцы и то лучше, чем это. Исидро однажды взял меня на муниципальный бал, еще до того, как все начали пускать желтую пену и умирать, и жены отцов города меня проигнорировали. Там была одна женщина, донна Елена, ну чистая корова, она все отпускала шуточки, прикрываясь веером, а ее подружки-квочки так и покатывались от ужасного притворного смеха. Мне хотелось поубивать их всех, выцарапать им глаза. Муж донны Елены, дон Люцио, был уполномоченным по общественным работам. Исидро хотел, чтобы он от имени города заключил с ним договор на поставку воды для сторожевых постов. После бала Исидро велел мне пойти с доном Люцио в прибрежную гостиницу и позволить ему все, что тот пожелает.
– Тебе понравилось?
– Не это само по себе. Не дон Люцио, если ты понимаешь, о чем я. Но я думала о донне Елене, и этом ее веере, и смехе. Она тоже продалась ему, но на всю жизнь. А мне нужно было перетерпеть с доном Люцио всего одну ночь. А ей он достался навсегда, и поделом ей, твари…
– В этом мире полно несправедливости, любовь моя.
– Чертовски верно, – согласилась она, укладываясь поверх него и легонько касаясь его шеи языком. – Но сейчас забудь об этом…
Он так и сделал.
14
Женевьева не могла уснуть. Лишь по ночам она чувствовала себя по-настоящему живой.
В ночной рубашке она мерила комнату шагами, прислушиваясь к ночным звукам. Там, в буре, были существа, которые звали ее.
Ее комната выглядела скромно. В ней не было зеркал.
На каминной полке стоял портрет Фламинео, ее отца. Он был очень похож на Фламинею, свою сестру-близнеца, но в тех вопросах, где она выступала моралисткой, он проявлял разнузданность.
Вспышка молнии осветила лицо отца, заставила его глаза сиять голубым светом. Он был изображен стоящим на горном склоне, на заднем плане виднелись очертания Удольфо, вокруг росли высокие деревья. Порой людям казалось, что они видят на картине какое-то движение среди деревьев, каких-то существ с блестящими глазами и острыми когтями.
Ее отец был охотником, товарищем знаменитого любителя охоты графа Рудигера фон Унхеймлиха. Он погиб, разбившись во время охоты на кабана. Отец обожал играть с огнем и прославился тем, что отваживался выходить даже против существ, наделенных почти человеческим интеллектом, – оборотней, гоблинов, элементалеи. Неудивительно, что он погиб.
Женевьева не могла вспомнить его. У него было лицо Удольфо, но оно же было у всех, кого она знала.
Еще одна молния. Она взглянула на портрет, и оказалось, что это пейзаж. Деревья остались на месте, и горный склон, и силуэт замка. Но ее отец исчез.
Такое уже случалось прежде.
15
Держа перед собой проволочную удавку, она пробиралась по коридору.
Ватек говорил, что это владения Кровавого Барона, гостя Смарры Удольфо, который был заколот своими же сыновьями, но не пожелал умереть.
Она пряталась в тени, стараясь не шуметь.
Кристабель размышляла, что сделает с состоянием, если оно достанется ей. Первым делом она выгонит своих родственничков из Удольфо и пустит по миру. Каждый из них и месяца не протянет. Потом она примется разбирать этот дом, камень за камнем, пока не найдет сокровище Черного Лебедя. И тогда, богатейшая женщина в Известном Мире, она вернется в большие города – Империи, Бретонии, Кислева – и сделает всех мужчин своими рабами. Страны будут принадлежать ей – только бери.
Она услышала какой-то звук и вжалась в нишу, слившись с темнотой. Что-то грузно двигалось по коридору.
Она затаила дыхание и ждала. Грохотали тяжелые шаги, скрежетал металл. Откуда-то разливался голубоватый свет.
Кристабель попыталась сжаться в комок, на всякий случай держа удавку наготове. Человекообразное существо завернуло за угол. Оно было фута на три выше Жокке, и ему приходилось нагибать голову, чтобы пройти по коридору с высоким потолком. Призрак был облачен в полный комплект старинных доспехов из отполированной стали с инкрустацией. Существо двигалось, будто ожившая статуя, с особой, почти завораживающей грацией.
Кристабель встала, призрак, не обратив на нее внимания, шествовал дальше. Ватек ничего не говорил ей насчет закованного в латы монстра. Это новое дополнение к Хроникам Удольфо.
Гигант в доспехах двигался медленно, но целеустремленно. Забрало его шлема было опущено, но из прорезей струилось голубое сияние.
Сама не зная почему, Кристабель встала у него на пути, глядя на монстра снизу вверх. Навершие на его шлеме было ей незнакомо.
Гигант остановился и наблюдал за ней, протянув руки.
Она была поражена его видом, его размерами, его силой. Вытянувшись во весь рост, она едва смогла бы достать до плеч существа. Кончиками пальцев она прикоснулась к железной груди. Та оказалась гладкой на ощупь и чуть теплой, металлической, но живой. Она позволила ладони задержаться на рельефных мышцах.
В сравнении с гигантом адвокат Ватек казался поистине жалким.
Существо заключило ее в объятия. Когда гигант поднял ее, Кристабель захлестнула волна приятного страха. Это создание могло без всяких усилий раздавить ее. Она обхватила его за шею и обмякла в его руках. Ощущая под забралом мужчину, она чувствовала, как голубое сияние затягивает ее.
Спустя мгновение он осторожно опустил ее на землю и, протиснувшись мимо, продолжил свой путь. Кристабель смотрела в защищенную доспехами спину, пока гигант не свернул за угол. Она вдруг поняла, что сердце ее едва не остановилось. Ей сделалось дурно, но она поборола слабость. Тело ее еще трепетало от удовольствия, вспоминая прикосновения незнакомца.
Она не могла поддаться своим женским чувствам. Менее осторожно, чем прежде, она зашагала по коридорам к комнатам доктора. Ей хотелось покончить со всем этим.
Доктор Вальдемар порой допоздна работал в своей лаборатории, перегоняя настои, которые все эти годы поддерживали жизнь в Старом Мельмоте. Его всегда можно было отыскать среди булькающих реторт и курящихся дымом тиглей. Покончив с ним, она устроит пожар, и никто ничего не заподозрит. Все вещества и реактивы, с которыми он забавляется, опасны. В его комнатах уже не единожды гремели взрывы.
Дверь в комнату доктора была открыта. Кристабель приготовила удавку и проскользнула внутрь. В комнате горел камин, дрова в нем прогорели уже до углей, освещающих комнату оранжевыми сполохами. Кресло было развернуто к огню, над его спинкой виднелась лысина доктора Вальдемара. Он уставился на горячие уголья.
Кристабель на цыпочках прокралась через комнату и одним стремительным движением обвила удавку вокруг шеи доктора. Она туго затянула петлю, чувствуя проволоку сквозь перчатки и стараясь выдавить из доктора жизнь.
Он не сопротивлялся.
И она тут же поняла почему. Доктор Вальдемар был привязан к креслу и придвинут вплотную к огню. Ноги его затолкали в камин, когда пламя еще горело высоко. Теперь его башмаки и брюки частично сгорели, а почерневшие ноги оканчивались круглыми головешками на месте ступней.
Голова доктора перекатилась в ее петле, и она увидела, что его рот набит листами пергамента. Во лбу сияли три металлические бляшки. Это были шляпки гвоздей.
«Проклятие, – подумала она. – Близнецы побывали здесь первыми!»
16
– Ты слышишь?
– Что?
Кто-то пел. Печальную, западающую в душу погрев бальную песнь без слов. Клозовски знал, что ему никогда не забыть ее.
– Это.
– Не обращай внимания, – сказал он ей. – У нас есть другие заботы.
Мелодия звучала далеко, но становилась все громче.
– Но…
Он поцеловал ее и прижал ее голову к подушке.
– Послушай, Антония. У меня есть план. Мы остаемся здесь и славно проводим ночь. Завтра, когда буря утихнет, мы можем встать пораньше, раздобыть какую-нибудь одежду и без оглядки бежать отсюда.
Антония кивнула, и его рука скользнула ей между ног и принялась дразняще ласкать ее. Она закусила губу и прикрыла глаза, отвечая на его прикосновения.
Теперь уже казалось, что поет целый хор.
Клозовски поцеловал ее в плечо и попытался выбросить песню из головы. Безуспешно.
Антония села.
– Мы не сможем. Не вышло.
– Мы должны найти это.
– По-моему, очень глупая идея.
Она уже вылезла из койки и натягивала ночную сорочку. Клозовски стало зябко.
Он поднялся, закутался в облачение и огляделся в поисках оружия. Возможно, он сумел бы разбить кому-нибудь череп тазом, но разгуливать с ним едва ли будет удобно.
Он попытался открыть дверь. Она была закрыта на засов снаружи.
– Мы заперты, – с облегчением сообщил он. Антония отворила зеркало.
– Вовсе нет. Там туннели и лестницы. Я видела, когда шла сюда.
Она взяла свечу и шагнула в проход. В его обители вдруг стало совсем темно. Он услышал, как тихонько позвякивают колокольчики на ее браслетах.
– Пошли.
Он на ощупь натянул башмаки и двинулся следом.
17
Женевьева услышала стук в дверь и топот маленьких ног. Она знала, что это близнецы играют в игру под названием «постучать и убежать». Она не стала открывать дверь. Это лишь раззадорило бы их.
Она сидела впотьмах и слушала. Вот снова явилась Стенающая Аббатиса, вновь и вновь кающаяся в том, что задушила своего новорожденного сына, плод ее неосмотрительной связи с карликом-магом. Предполагалось, что всю семью похоронили под одной из стен восточного крыла.
Ее отец все еще не вернулся на портрет.
Раздался скрип. Дверь слегка выгнулась, будто на нее навалилось что-то тяжелое. Зная, что будет жалеть об этом, Женевьева подошла, отперла замок и открыла дверь. Ее посетитель упал на колени, потом растянулся ничком на ковре у ее ног. По одежде она узнала адвоката Ватека.
Но куда делась его голова?
18
Александр последовал за ней, но его это вовсе не радовало.
Должно быть, здесь целая система туннелей, на манер гномьих лабиринтов под многими городами Империи. Они продолжали продираться сквозь отяжелевшие от пыли слои паутины, давя валяющиеся под ногами древние кости. Слышно было, как в темноте шмыгают крысы.
И все равно они не могли определить, откуда доносится пение.
– Странно, – сказала Антония, стряхивая с руки паутину. – Паутины много, а пауков нет совсем.
– Не люблю пауков, – пропыхтел Александр.
– А кто любит?
– Кристабель Удольфо?
– Может быть, – рассмеялась Антония.
Она потерла паутину между указательным и большим пальцами. Та рассыпалась.
– Знаешь, это не похоже на паутину. Скорее на ту хлопковую дрянь, которую используют в театре. Помню, в спектакле «Замок в паутине, или Выпотрошенный Дидрик» она была везде. Люди от нее просто задыхались.
– Так, значит, все это спектакль?
– Ну, а где ты когда-нибудь раньше видел, чтобы гости взрывались за обедом? Или верзилу, у которого на лице шрамов больше, чем прыщей? Или то, что мы оказались в этаком месте темной ночью в бурю?
– А в этом что-то есть. Может, и не слишком много, но есть.
Они уперлись в тупик. Повернулись, пошли обратно по своим следам и оказались в тупике снова.
– Этой стены здесь не было. Смотри, наши следы выходят из нее…
Она опустила свечу. Так и есть. Пение прекратилось. Теперь раздался равномерный скрежет, гораздо ближе.
– Антония, – попросил Александр, – подними свечу повыше.
Она послушалась. Потолок медленно опускался.
– Шаллия милосердная, – пробормотал Александр.
19
Исидро д'Амато знал, что не сможет уснуть, пока не пересчитает их снова, еще всего один раз.
Он раскрыл саквояж и принялся ощупывать мешочки с монетами. Он, распуская тесемки, открывал каждый по очереди и сортировал монеты по номиналу. Он всегда старался как можно большую часть состояния переводить в монеты и держать их в потайных местах, а не в банковских домах Мираглиано. Теперь ясно, что он поступил мудро.
Он проклинал того спекулянта с болот, который предложил ему две наливные баржи с водой, предположительно дождевой, за баснословно низкую цену. Когда стражники и те, кого дела приводили на сторожевые посты, начали падать замертво и у них из всех дырок потекла отвратительная желтая пена, д'Амато инстинктивно понял, что пора проститься с городом и двигаться к своему дому в Бретонии.
Монеты звенели, когда он пересыпал их с ладони на ладонь. Он решил, что бросит Антонию Марсиллах где-нибудь по дороге. Если выбирать между твердой холодной монетой и мягкой теплой кожей, он всегда предпочитал первое.
Странный дом. Он будет счастлив убраться отсюда.
Исидро принялся убирать мешочки с деньгами в саквояж, тщательно укладывая один к другому. В саквояже что-то шевельнулось, и он быстро отдернул руку, спрятав ее под мышку. Он успел почувствовать, что у существа маленькое теплое тело. Размером оно было с крысу, но без шерсти. Точнее, его спину покрывали крохотные иглы, колющие кожу.
Из темноты саквояжа на него внимательно смотрели голубые глаза.
Не в силах выдавить из себя ни звука, он с ужасом глядел, как скачущее внутри существо опрокинуло саквояж.
Потом оно выскочило наружу, подобно черному пятну, и с писком исчезло. Глухо стукнулся об пол мешочек с монетами, вылетел клочок пергамента. Это был старый конторский счет, которым он застелил дно саквояжа.
Он подобрал бумагу и взглянул на нее. Тот больше не был наспех исписан цифрами, как запомнилось д'Амато. Теперь это был какой-то план, но не весь. Линии обрывались на половине рисунка, словно тому, кто чертил его, помешали, прежде чем он успел обвести чернилами еле заметные карандашные следы. На бумаге виднелись остатки печати – голова лебедя на черном воске.
Позади открылась дверь. Д'Амато обернулся и сжал в руке кинжал. Тот, кто попытается похитить его деньги, не уйдет живым.
– Монтони, – произнес вошедший. – Дедушка, это я.
Это был Пинтальди. Он проскользнул в комнату и протянул руку. На руке не хватало трех пальцев, обрубки все еще кровоточили.
– Это Фламинея и Шедони, – выдохнул он. – Они пытаются исключить нашу родовую ветвь из завещания.
– Завещания?
– Да. Состояние должно быть нашим, дедушка. Я знаю, ты для этого и вернулся.
– Я не…
Пинтальди рухнул в кресло и принялся бинтовать руку шарфом.
– Я узнал тебя по портрету в галерее, дедушка. Ты не очень изменился за шестьдесят лет. Все тот же Монтони.
Торговец чувствовал себя смущенным. Он знал, что он не этот Монтони, и все же тут было кое-что…
– Состояние, говоришь?
Пинтальди кивнул:
– Теперь оно огромное, с учетом процентов, набежавших со времен отца Смарры. Невообразимо огромное.
Д'Амато попытался представить невообразимо огромное состояние. Попытался представить его в монетах. Груда мешков с золотом, размером и формой с город. Или с гору.
– И, дедушка, у меня есть половина карты. Она вытатуирована на спинах моих детей. Теперь, с вашей половиной, пиратское сокровище наше! И к чертям все эти дурацкие истории о проклятии Черного Лебедя.
Сокровище! У д'Амато затвердел член. Сокровище! Он взглянул на бумагу из саквояжа, небрежно отброшенную в сторону, потом снова на Пинтальди. Теперь он был само внимание и слушал. Но он не упоминал про найденную им половину карты.
– Они все время строят нам козни. Фламинея, Равальоли, Шедони, все. Интригуют, чтобы исключить нас из завещания. Ватек за нас, а вот Вальдемар – нет. Я могу запросто завоевать Кристабель. Она любит красивые лица. Но Женевьева – ведьма. Мы должны убить ее.
Он уже начал повторять:
– Ведьма, да. Ведьма.
– Амброзио – это действительно проблема. Твой брат. Жокке знает, что вас подменили в детстве и что на самом деле это он Монтони, а ты – Амброзио. Но это можно уладить. Ты был Монтони, когда сбежал, когда королева разбойников произвела от тебя на свет моего отца, когда убил лесного эльфа, который мог бы дать показания против нас.
Монтони вспомнил, что использовал имя д'Амато только для маскировки. Он забыл, но вернулся домой, и все снова встало на место. Состояние его по праву. Сокровище его по праву. Шедони и Фламинея – узурпаторы. Им не достанется ни монеты.
– Пинтальди, любимый мой внук! – Он обнял юнца. – Мы победим.
Пинтальди подобострастно склонился перед ним, потуже перетягивая руку.
– Мы должны убить Женевьеву. И Амброзио.
– Да, – ответил он. – Конечно, должны.
– Сегодня ночью.
– Да, сегодня ночью.
20
От пола до потолка оставалось не более двух футов. Их прижало друг к другу, сплющило в единый комок, из которого под нелепыми углами торчали их руки и ноги. Потолок продолжал опускаться.
Клозовски никак не мог воспринять это всерьез. Такой нелепый способ погибнуть.
– Антония, – сказал он, – я должен сказать тебе, что я известный революционер, приговоренный в Старом Свете к смерти. Я принц Клозовски.
На ее лице, совсем рядом с его, промелькнула слабая улыбка.
– Мне все равно, – ответила она.
Они попытались поцеловаться, но мешало его колено. Восемнадцать дюймов. Это было похуже повозки с трупами. С сырого потолка сочилась вода.
Он подумал о том, как мог бы жить, не посвяти всего себя делу революции. Одобрение вдовствующей принцессы, хороший дом, отличная одежда, обширное поместье, прелестная жена и чудесные дети, сговорчивые любовницы, легкая жизнь…
– Если мы когда-нибудь выберемся отсюда, – сказал он, – я хотел бы просить тебя…
Потянуло свежим воздухом, и потолок, дернувшись, с грохотом устремился вверх. Стена скользнула вниз, уйдя в пол, и впереди открылся проход.
– Да?..
Клозовски не мог закончить фразу.
– Да? – переспросила Антония, и в ее глазах заблестели счастливые слезы.
– Я хотел бы просить тебя… просить…
Нижняя губка красотки задрожала.
– …оставить мне пару бесплатных билетов, когда ты в следующий раз будешь танцевать на сцене. Я уверен, что ты прекрасная актриса.
Антония проглотила явное разочарование и, пожав плечами, улыбнулась одними губами. Она крепко обняла его.
– Да, – ответила она, – конечно. Пошли, выберемся из этих туннелей, пока не случилось еще чего-нибудь.
21
В желудке Равальоли было пусто, будто он не ел несколько месяцев.
Он выпутался из толстого материала, в который его завернули, и осмотрелся. Ульрик, да у него рана в животе!
Он лежал на каменном столе в одном из подвалов. Равальоли попытался вспомнить, что случилось. Ему что-то попалось в каше. Он что-то проглотил. Это все Фламинея, он уверен. Это она отравительница. Пинтальди пустил бы в ход огонь, Кристабель – свои руки.
Пошатываясь, Равальоли проковылял по каменному полу и без сил свалился около тяжелой плиты, закрывающей выход. Ему придется напрячь все силы, чтобы отодвинуть ее. Потом он отыщет Фламинею и поквитается с ней.
Его жена ненавидела насекомых, а Равальоли знал, где отыскать гнездо молодых хищных червей. Он наберет их яиц и затолкает ей в глотку, и пусть черви выведутся внутри нее и прогрызают путь на волю. Он ей отплатит.
Равальоли изо всех сил налег на камень. Он думал о мести.
22
В главном зале она нашла Шедони, лежащего на огромном плоском блюде. Из груди у него торчал вертел, но он был еще жив и истекал кровью.
Кровь возбудила Женевьеву. Что-то шевельнулось в ней.
Ударила молния, и по залу заметались тени. Она увидела стоящего у окна Жокке с окровавленными руками. Он был пьян и казался оцепеневшим изваянием. С ним была одна из служанок, Танья, обнаженная и натертая маслом, она стояла на четвереньках, как животное. Она оказалась не вполне человеком, с широко раскрытыми глазами на месте сосков и крошечным чешуйчатым хвостиком, торчащим между ягодиц.
Шедони прерывисто дышал, его кровь растекалась по пудингу, в котором он лежал.
Женевьева кинулась через зал к столу. Танья зашипела, но Жокке удержал ее.
Был ли Шедони ее дедом или прадедом? Она не могла припомнить.
Рубашка на старике была порвана, и вертел поднимался и опускался в такт движениям грудной клетки. Рот Женевьевы жадно приоткрылся. Ее клыки скользнули из десен. Древний инстинкт взял верх. Она вырвала и отшвырнула прочь вертел, потом прижалась ртом к ране Шедони. Она сосала, и кровь старика толчками вливалась в нее.
Ее сознание прояснилось, и она сглотнула.
Эти люди ей никто. Она здесь гость, так же как Александр, д'Амато и девушка. Они заставили ее играть роль, но это не ее роль. Она не Женевьева Удольфо. Она Женевьева Дьедонне. Ей не шестнадцать лет, ей шестьсот шестьдесят девять. Она даже не человек. Она вампир.
Женевьева пила и становилась сильнее.
Грубые руки ухватили ее за шею и оттащили от Шедони. Зубы ее оторвались от раны, кровь, пузырясь, потекла обратно изо рта.
Жокке швырнул ее через зал. Она приземлилась, как кошка, и, перекатившись, вскочила на ноги.
Дворецкий взревел порванным горлом, и на нее прыгнула Танья.
Женевьева сжала кулак и ударила зверодевушку в лицо. Танья отлетела с вбитым внутрь головы носом.
«Это была хитрая ловушка», – вспомнила она. Она убегала, и это входило в их план. Она хотела изменить свою жизнь, и в этом проявилась ее слабость. Она не могла больше жить с Детлефом, не могла сидеть ручной зверушкой в Альтдорфе. На пути в Тилею ее застигла буря, заставив искать убежища в Доме Удольфо. И тогда ее засосала их игра…
Жокке сорвал со стены пику. Двадцати футов длиной, в его руках она казалась вполне уместной. Он ткнул ею в Женевьеву. Острие пики было посеребренным. Она отскочила. Жокке целился в сердце.
Шедони теперь сел, рана его затягивалась коркой. Это было частью заклинания. Теперь она вышла из-под его власти и подозревала, что на нее его действие не распространяется. Удар дерева и серебра в сердце, и она умрет так же, как любой другой на ее месте. Жокке бросился на нее.
23
Старый Мельмот улыбался, лежа в постели, слабые мышцы натягивали морщинистую кожу. Мальчишкой он любил читать мелодрамы, смотреть их на сцене. Молодым человеком он слыл самым известным коллекционером чувствительной литературы в Старом Свете. Теперь, на смертном одре, благодаря магическим заклинаниям, которые его предок-пират вывез с Пряных Островов, он находился в самом центре величайшей мелодрамы, которую когда-либо видел свет. Он дергал за ниточки, и его марионетки интриговали, убивали, любили и воровали…
У его постели, держа голову на коленях, сидел Ватек, выложив на покрывало очередной черновик завещания. Доктор Вальдемар, ползая на руках, хлопотал в углу, готовя очередной раствор.
За окном была темная грозовая ночь…
24
Они вылезли из камина в главном зале. Там кипела схватка. Женевьева, с красными глазами и оскаленными зубами, бегала вокруг длинного стола, а за ней гнался Жокке, дворецкий, с пикой.
– Сделай что-нибудь, – попросила Антония.
Клозовски не знал, как быть. Он не был уверен, стоит Женевьева между ним и состоянием Удольфо или нет. Может быть, ее смерть на шажок приблизит его к обладанию этой горой денег, к тому, чтобы выполнить предначертанное ему судьбой.
Он шагнул в зал.
– Я Монтони! – провозгласил он. – Я вернулся потребовать то, что принадлежит мне по праву рождения!
Все остановились и воззрились на него.
Он держался величественно, стараясь всем видом показать, что он действительно законный наследник. Годы скитаний были забыты. Теперь он дома и готов драться за то, что принадлежит ему…
– Нет, – раздался другой голос. – Это я Монтони, и я пришел потребовать то, что принадлежит мне по праву рождения.
Это был д'Амато, одетый будто нелепый опереточный бандит, весь в шарфах и перевязях, с мечом, который едва мог поднять.
– Ты что, рехнулся? – поинтересовалась Антония. – Сначала ты был революционером, теперь – пропавший наследник.
– До меня только что дошло. У меня, наверно, была амнезия. Но теперь я вспомнил. Я настоящий Монтони.
Д'Амато оскорбленно взмахнул мечом.
– Тебе никогда не удастся подлым мошенничеством отнять у меня мои деньги, свинья. Прочь от моего богатства! Оно мое, понял, мое! Все монеты, груды монет. Мое, мое, мое!
Этот торговец просто жалкий псих. Меч д'Амато покачивался в воздухе. У Клозовски оружия не было.
– Мое, слышите, все мое!
Антония сунула ему трехфутовую кочергу с раздвоенным концом. Он вспомнил, как д'Амато оскорблял его возлюбленную. Антония была цыганской принцессой, проданной в младенчестве отвратительному Водяному Колдуну, и ежедневно сносила его плохое обращение. Клозовски взмахнул кочергой, и меч д'Амато лязгнул о нее.
– Боритесь с этим, глупцы! – прокричала Женевьева. – Это все ненастоящее. Это заклинание Старого Мельмота.
Торговец яростно рубанул сплеча, и Клозовски едва увернулся. Он ухватил кочергу обеими руками и со всей силы обрушил на голову д'Амато, отбросив того к широкому креслу.
Так и надо этому узурпатору!
Д'Амато сполз на пол, продолжая бормотать:
– Мое, все мое. Я Монтони, настоящий Монтони Удольфо…
Клозовски привлек к себе Антонию, обняв сильной рукой вздымающиеся плечи, и поцеловал девушку, которую он сделает хозяйкой Удольфо.
– Я Монтони, – сказал он.
Он оглядел всех, ожидая, что они признают его.
– НЕТ, – прорычал знакомый голос.
Слово повисло в воздухе, раскатываясь эхом, словно раскат грома.
– НЕТ.
Жокке заговорил. В итоге оказалось, что он не немой.
– Я не могу больше молчать.
У дворецкого голос был как у быка. Клозовски уже слышал этот голос прежде, до сумерек, до бури. Жокке был главарем бандитов, ограбивших послушника Морра. Он, должно быть, всегда знал, что Клозовски – это лишь маскировка.
– Я настоящий Монтони Удольфо, – сказал Жокке.
Стоящие у дальней стены доспехи вдруг ожили, их забрала поднялись.
– А это мои верные слуги.
Это были настоящие смуглые бандиты, многие без глаза или без носа.
– Этот дом и все в нем по праву принадлежит мне.
Жокке для пущей выразительности ударил себя в грудь. Между его шеей и ключицей появилось острие пики и продолжало продвигаться кверху. Жокке взглянул на торчащую из него штуковину, и его горло разверзлось в оглушительном яростном реве.
Его подняло в воздух, легко, словно куклу, и он заскользил по древку пики вниз. Изо рта и носа у него ручьем хлынула кровь. Позади Жокке стоял закованный в броню гигант, поднявший бандита на его же собственную пику. Рядом с гигантом выступала Кристабель, в наряде невесты с побитыми молью шлейфом и вуалью. Клозовски был потрясен.
25
Она, наконец, добралась до двери, толкнула ее головой и поняла, что та не заперта. Впервые за много лет Матильда покинула свою комнату. Она поднялась с трудом, баюкая голову в ладонях. В конце коридора было окно, а за ним она видела долину.
На мгновение она опять стала собой прежней – Софией Галларди из Люччини, – и потом она уже оказалась на подоконнике. Ее голова пробила стекло и оконный переплет, и она полетела вместе с каплями дождя на склон в сотнях футов внизу. Ей казалось, что это падение никогда не кончится. Но оно кончилось.
26
Антония запуталась. Она уже не понимала – и не пыталась понять, кто есть кто.
Жокке извивался, как червяк на крючке у рыболова, а гигант застыл как изваяние. Бронированные бандиты суетились вокруг него, нанося бесполезные удары булавами и мечами.
Одно из окон разбилось, и по залу вместе с дождем и ветром разлетелось облако стеклянных осколков. Это было даже эффектнее, чем финал «Проклятого Кхорном, или Смерть лорда-демона» Жаки Билля де Трувеля.
Стол опрокинулся, являя взглядам отца Амброзио в растрепанной одежде, сплетенного в единый клубок с двумя служанками и одним визжащим поросенком.
С ним, казалось, приключилось нечто вроде приступа, несомненно имевшего причиной изрядное перенапряжение. Он пытался сбросить нечто невидимое со своей шеи. Антонии показалось, что она видит красные отпечатки невидимых пальцев на его дряблой белой шее.
Она схватила Клозовски за руку и прижалась к нему.
Женевьева, с подбородка которой стекала кровь, взяла его за другую руку. Она выглядела единственным проснувшимся существом во всем Удольфо.
– Надо нам выбираться отсюда, – сказала вампирша.
– Да, – согласилась Антония.
– Сейчас.
– Да.
Клозовски не сопротивлялся.
Гигант медленно метнул пику, точно копье. Со все еще нанизанным на нее Жокке пика пролетела через весь коридор и вонзилась в стену примерно в пятнадцати футах над полом. Она согнулась, но слуга-разбойник был пришпилен накрепко, по его спине струилась кровь.
Антония вспомнила про д'Амато. Она оставила Клозовски и Женевьеву и склонилась над своим былым покровителем.
Двойные двери распахнулись, и в зал ворвался Пинтальди, держа в каждой руке по пылающему факелу и крича:
– Огонь, огонь!
– Исидро, – позвала Антония. – Исидро, очнись.
– Это все мое, слышишь? Я Монтони! Монтони!
– Исидро?
Д'Амато оттолкнул ее, и она налетела на Фламинею.
– Шлюха, – бросила та, оцарапав ее.
Гигант теперь двигался проворно, сворачивая бандитам шеи одному за другим и швыряя их в кучу. Кристабель в экстазе исступленно играла на клавесине, ee шлейф развевался по ветру.
– Пошли, девочка, – позвала Женевьева, таща за собой Клозовски с бессмысленным, ничего не выражающим взглядом.
Антония позволила увести себя из зала.
– Мое, мое…
– Огонь, огонь!
27
Кристабель не помнила, кем была на самом деле. Это было не важно. С того момента, как она попала в Удольфо, она дома.
Ее новый возлюбленный убил Жокке. Теперь он уничтожит остальных ее врагов. С последним из бандитской команды дворецкого покончено, они мертвы внутри искореженных доспехов.
Кристабель захлопнула крышку клавесина и простерла руки, ощущая на теле холодную ласку ветра.
Из подвала в зал полз Равальоли. Она кивнула, и гигант наступил ее отцу на спину.
Танья, служанка-ящерица, стрельнула длинным раздвоенным язычком и поймала муху.
– Милосердная Шаллия, – выдохнула Фламинея, когда удавка захлестнулась вокруг ее шеи.
Кристабель затянула ее потуже.
– Огонь, огонь…
Пинтальди подбросил факел в воздух, и тот распался на пылающие обломки.
Пламя коснулось шлейфа Кристабель, и в одно мгновение огонь охватил ее всю, перекинувшись на Фламинею.
– Шлюха, – прохрипела ее мать и плюнула в нее.
Кристабель продолжала затягивать удавку, даже когда вокруг них уже бушевало пламя. Пинтальди оказался прав. Огонь был холодным, и он резал. Пинтальди и сам был охвачен им, раскидывая его языки везде, обнимая каждого.
Они все были здесь. Шедони, Равальоли, Ватек, Амброзио, доктор Вольдемар, Фламинея, Жокке, Пинтальди, Монтони, служанки. Пламя охватило огромный зал. Еще одно крыло будет уничтожено, прежде чем пожар потушит буря. Гигант неподвижно стоял посреди огня. С ним были и другие. Фламинео, Призрачный Охотник. Голубое Лицо Удольфо. Дворецкий-Душитель. Стенающая Аббатиса. Призрачная Невеста. Кровавый Барон. И многие, многие другие.
Кристабель почувствовала, как плавится ее лицо…
…и знала, что это не навсегда.
28
Дождь стихал, и уже почти рассвело. Клозовски лежал на земле, пока Женевьева и Антония смотрели, как горит Дом Удольфо.
– Это навсегда?
– Нет, – ответила Женевьева. – Он воссоздаст сам себя. Это странное заклинание. Какое-то изобретение Старого Мельмота.
– Кто-нибудь из них был изначально членом семьи?
– Не знаю. Думаю, может, Шедони. А доктор Вальдемар – действительно врач.
Клозовски сел, и женщины обернулись к нему.
– М-Монтони? – спросила Антония.
Он помотал головой.
– Он думал, что он революционер, – объяснила Антония вампирше.
– Я и есть революционер, – запротестовал он.
– Это пройдет.
– Но это правда.
Еще одна башня обратилась в руины, на миг под первыми лучами солнца блеснуло золото, потом его заволокло столбом черного дыма. Пока одна часть дома гибла, другая росла подобно чудовищному растению, громоздились стены, в окнах появлялись стекла, со скрипом перекидывались стропила. Дом Удольфо был непобедим.
– Нам нельзя здесь оставаться, – сказала Женевьева. – Нужно обойти поместье, держась от него как можно дальше. Заклинание действует постоянно и на большом расстоянии. Потом, возможно, мы сможем добраться до Бретонии.
– А они так и будут продолжать? – поинтересовался Клозовски.
Женевьева взглянула на него.
– Думаю, да, Александр. Пока Старый Мельмот, наконец, не умрет. Может, тогда они все проснутся.
– Глупцы.
– Мы все верим в волшебные сказки, – заметила вампирша.
29
Старый Мельмот, один в своей комнате, наслаждался кульминацией сегодняшнего сюжета. Огонь, он всегда радует, всегда очищает.
Гигант в доспехах был хорош. Он оказался прекрасным дополнением. Одна сбежала. Но добавился один новый. Честный обмен. Количество актеров то же, что и до наступления ночи. Разбившаяся Матильда снова в своей комнате, измененная еще больше прежнего.
Дождь за окном теперь лишь чуть моросил, на небе появились первые рассветные кляксы.
Кристабель вопила, сгорая, ее подвенечное платье съеживалось и таяло, прикипая к коже. А Танья ядовито шипела в лицо Амброзио, мстя ему за все ухаживания.
Шедони так и испекся на блюде, на котором лежал. Пожалуй, его можно будет съесть холодным на завтрак. Человечине не впервой появляться на столе Удольфо.
Он расслабился и ждал, когда придет сон.
Интересно будет посмотреть, что сталось с куском карты, доставшимся Монтони. Проклятие Черного Лебедя за долгие годы остудило пыл многих охотников за сокровищами. Возможно, Фламинео мог бы почаще исчезать с портрета вместе со своими охотничьими собаками и искать новые опасные приключения.
Впервые он произнес свое заклинание в библиотеке, посулив часть своей души темным силам, при условии, что ему никогда больше не будет скучно. Его прежняя жизнь не была ни трагичной, ни комичной, но попросту скучной. Теперь он стал частью обожаемых мелодрам, и его постоянно развлекают пляски придуманных им марионеток. Он начал было дремать, но был разбужен каким-то еле слышным звуком. Его дверь отворялась.
– Ватек? – прокаркал он. – Вольдемар?
Шаги двух пар ног, легких и старающихся быть неслышными. Его посетители не ответили ему.
Он почувствовал, как подергивается постельное белье, по которому они карабкались на кровать, сражаясь с занавесями. Они были легкие, но он знал, что их ногти и зубы остры, и они искусно умеют пользоваться ими. Он услышал, как они хихикают между собой, и ощутил их первые прикосновения. Занавеси вокруг его кровати оборвались и полетели на пол.
– Мельмот? – с любовью спросил он. – Флора?
Это был финальный занавес.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. РОГ ЕДИНОРОГА
1
Высокие прямые деревья стояли вокруг, словно черные прутья клетки. Если бы Доремус посмотрел вверх, то едва разглядел бы сине-белые краски неба сквозь густой полог Драквальдского леса.
Даже в полдень по этим тропинкам следовало бы ходить с фонарем. Следовало, конечно, путникам. Охотник должен пожертвовать безопасностью, чтобы свет фонаря не вспугнул добычу.
Граф Рудигер, его отец, спокойно положил руку ему на плечо, привлекая его внимание. То, что он чуть сильнее обычного сжал пальцы, выдавало его волнение. Он кивнул в сторону северо-запада.
Стараясь поворачиваться не слишком поспешно, Доремус взглянул в ту сторону и увидел последние следы того, что заметил отец.
Вспышки отраженного света. Словно короткие серебряные кинжалы, царапающие кору.
Отец легонько хлопнул пальцем по его плечу два раза. Два животных.
Вспышки света исчезли, но существа были еще тут. Ветерок тянул с севера, и их ноздри не почуяли запах охотников.
Отец беззвучно извлек из колчана длинную стрелу и наложил на тетиву боевого лука. Оружие превосходило размерами рост высокого мужчины. Доремус смотрел, как Рудигер натягивает тетиву и от напряжения все явственнее выступают жилы на его шее и руках. Граф зажал стрелу в кулаке, и ее острый трехгранный наконечник уперся в костяшки его пальцев.
Как-то на спор граф Рудигер фон Унхеймлих простоял целый день, удерживая тетиву взведенной, и на закате выпустил стрелу точно в яблочко. Друзья, с которыми он спорил, едва смогли продержаться со своими луками около часа каждый и проиграли в том пари свое оружие. Трофеи висели теперь в охотничьем домике, изящные и дорогие вещицы, произведения искусства, богато инкрустированные и отлично гнутые. Рудигер не стал бы пользоваться такими безделушками: он доверял простому куску дерева, самолично вырезанному им из ствола молодого деревца, и мастеру, который понимал, что лук – это инструмент для убийцы, а не украшение для джентльменов.
Граф, пригнувшись, осторожно крался к добыче, нацелив стрелу в землю. Уже видны были следы зверей, малозаметные отпечатки копыт на покрытой мхом каменистой лесной почве. Даже в разгар дня тут чувствовалась прохлада. Стоило копнуть чуть глубже прикрытую палой листвой гальку, и там обнаруживалась земля, твёрдая, как железо, промерзшая насквозь. Скоро настанет зима и положит конец забавам графа Рудигера.
Стараясь успокоить дыхание, Доремус тоже вытянул стрелу, вложил в мягкий лук и взвел тетиву примерно на две трети, чувствуя, как от напряжения вспыхнула боль в плече. Поговаривали, что Доремус фон Унхеймлих пошел не в отца.
Все остальные держались позади этой пары. Ото Вернике, которому было особо велено не ломиться с шумом, подобно кабану, и не мешать охотникам, двигался осторожно, сложив пухлые руки на животе, тщательно выбирая, куда поставить ногу, чтобы не хрустнула предательски ветка и не попался скользкий камушек.
Старый граф Магнус Шеллеруп, последний из тех, кого прежний император Люйтпольд называл своими Непобедимыми, так и сиял, ухмыляясь тонкогубым ртом. Шрамы, свивающиеся в клубок на одной щеке, побагровели и налились горячей кровью, бросившейся ему в голову в пылу погони. Единственной уступкой была многослойная меховая одежда, делавшая его похожим на горбуна. Хоть Магнус и жаловался на свои старые кости, но оставался в силах во время марш-бросков держаться наравне с мужчинами моложе него на сорок лет. Бальфус, их проводник с густой бородой, и его стройная ночная подружка держались в арьергарде, чтобы пообжиматься по дороге. Девчонка прилипла к своему мужчине, как пиявка. Доремусу, когда он думал о ней, приходилось подавлять дрожь отвращения.
Он наблюдал за отцом. Тот жил именно ради тех коротких мгновений, когда подкрадывался к добыче на расстояние удара кинжалом и уравнивались их с жертвой шансы. Граф Магнус так же был одержим жаждой честного убийства, он держался позади только из уважения к Рудигеру. Доремусу втолковывали это с колыбели, пичкали историями о добытых и упущенных трофеях, однако все это по-настоящему ничего не значило для него.
Мышцы его руки подрагивали, и он чувствовал, что тетива режет ему пальцы, словно лезвие бритвы.
– Без крови никакого толку не будет, – говорил отец. – Надо, чтобы в мякоти пальцев образовалась бороздка, вроде того желобка, что ты вырезаешь на луке. Твое оружие – это часть тебя, так же как в свое время ты становишься частью его.
Чтобы победить боль, Доремус решил сделать ее еще сильнее. Он еще дальше оттянул тетиву, так что наконечник стрелы коснулся сложенных колечком большого и указательного пальцев, царапая кожу на ладони. Сухожилия в плече и локте горели огнем, и он изо всех сил стиснул зубы.
Доремус надеялся, что отец доволен им. Граф Рудигер не оглядывался, зная, что сын не осмелится подвести его.
Рудигер обошел дерево и замер, выпрямившись. Доремус приблизился и встал у него за плечом.
Они увидели добычу.
Последние пятьдесят лет здесь проседала земля, увлекая за собой деревья. Они попадали, поломанные, но пока еще живые, растопырив ветки во все стороны. Впадина заполнилась чистой дождевой водой. В этой части леса было полно таких провалов, там, где обрушились старые гномьи туннели. Земля представляла здесь не меньшую опасность, чем любая дикая тварь. Тихое озерцо затянуло ледком, тонким, как пергамент, испещренным красно-коричневыми листьями.
На другой стороне пруда, там, где лед был разбит стояли звери, опустив морды в воду, окунув в нее рога.
За спиной кто-то громко вздохнул при виде этого зрелища. Подружка Бальфуса. Черт бы побрал эту девчонку.
Единороги, как один, вскинули головы, насторожились, наставив рога на охотников.
Все застыли. Доремус мог бы вспомнить каждую подробность этого мгновения. Рога единорогов, сверкающие от воды, сияющие, словно свежеотполированный металл. Пар, поднимающийся от боков животных. Затуманенные, светящиеся умом янтарные глаза. Тени перекрученных сучьев сваленных деревьев.
Единороги были самцами, маленькими и стройными, как чистокровные жеребята, белыми, с характерным для их племени черным крапом на матовой шерсти бороды и подбрюшья.
Стрела графа Рудигера отправилась в полет еще до того, как девчонка успела закончить шумный вздох. И она вонзилась животному в глаз прежде, чем Доремус смог прицелиться. Единорог Рудигера заржал и бешено забился, а наконечник стрелы уже торчал у него из затылка.
Смерть наступила быстро, из глаз и ноздрей животного хлынула кровь.
Единорог Доремуса развернулся и бросился прочь прежде, чем он успел выпустить стрелу, и ему пришлось поднять левую руку выше, чтобы исправить прицел.
Стрела, дернувшись, ушла из его ладони, и он почувствовал, как руку обожгла боль.
– Хороший выстрел, Дорри, – выпалил Ото, хлопнув его по разламывающемуся от боли плечу.
Доремус передернулся и попытался не показывать виду.
Единорог уже почти скрылся, когда стрела настигла его. Она скользнула по его боку, оставляя на белой шкуре красную полосу, и вонзилась глубоко под ребра.
Наверно, она должна угодить в сердце.
Единорог Доремуса зашатался и упал, но поднялся снова. Из раны капала кровь.
Животное взревело во всю силу легких.
– Готов, – одобрительно кивнул граф Магнус.
Доремус не мог поверить. С того мига, как он выбирал стрелу, его не покидала уверенность в собственном промахе. Обычно так и происходило. Он изумленно взглянул на отца. Тяжелые брови графа Рудигера были нахмурены, лицо мрачно.
– Но не вчистую, – бросил он.
Единорог Доремуса, пошатываясь, исчезал за деревьями.
– Далеко ему не уйти, – сказал Бальфус. – Мы его выследим.
Все смотрели на Рудигера, ожидая его решения.
Он энергично шагнул на край провала, аккуратно ступая среди присыпанных листьями стеблей ползучих растений. Лук уже снова висел у него за спиной, теперь он достал свой охотничий нож гномьей работы. Состояние фон Унхеймлихов считалось одним из крупнейших в Империи, но, не считая лука, этот нож граф называл своим главным сокровищем.
Они все двинулись следом за мастером охоты, обходя по краю неподвижный пруд, к упавшему животному.
– Жаль, что это жеребец, – сказал граф Магнус. – А то был бы отличный трофей.
Отец проворчал что-то, и Доремус вспомнил охотничью заповедь, которую его в детстве заставили затвердить наизусть. Рог единорога, который его прапрадед притащил в жилище фон Унхеймлихов, принадлежал самке. Трофеями считались только самки единорогов.
Единорог Рудигера уже начал разлагаться, на его шкуре появились коричневые мокрые пятна, будто гниль на побитом яблоке. Самцы единорога, когда их убьют, долго не хранятся.
– Вы скоро сможете забрать свою стрелу обратно, Рудигер, – заметил граф Магнус. – Вот это да!
Рудигер стоял на коленях возле своей жертвы, тыча ее ножом. Животное было на самом деле мертво. У них на глазах гниль распространялась, смердящая шкура опадала на лишенный плоти, рассыпающийся скелет. Уцелевший глаз ссохся и провалился в глазницу. В останках закопошились черви, словно тело пролежало уже много дней.
– Поразительно, – заметил Ото, кривясь от вони.
– Так уж эти твари устроены, – объяснил Бальфус. – В них есть какая-то магия. Единороги живут гораздо дольше положенного им срока, а когда смерть все-таки находит их, с ней сразу приходит и тление.
Бледная девушка что-то неодобрительно пробормотала себе под нос, лицо ее ничего не выражало. Вряд ли ей было приятно увидеть такое, знать, что ее со временем ждет та же участь.
Рудигер спрятал нож и набрал в пригоршню холодеющей крови единорога. Он поднес ее к лицу Доремуса.
– Пей, – велел он.
Доремусу хотелось отказаться, но он знал, что не может.
– Ты должен взять что-нибудь от добычи. Любое убийство делает тебя сильнее.
Доремус взглянул на улыбающегося графа Магнуса. Несмотря на то, что дикая кошка когда-то превратила его лицо в ярко-красное месиво, он выглядел добродушным человеком, зачастую более снисходительным к предполагаемым слабостям и промахам Доремуса, чем собственный отец.
– Ну же, мой мальчик, – сказал Магнус. – Это добавит прочности твоим костям, огня твоему сердцу. Все распутники Миденхейма свято верят в действенность крови единорога. Ты уподобишься мужской силой этому жеребцу. И произведешь на свет множество славных сыновей.
Собравшись с духом, Доремус ткнулся лицом в ладонь отца и отхлебнул немного густой красной жидкости. Она оказалась практически безвкусной. Немножко разочарованный, он не ощутил в себе никаких изменений.
– Это сделает из тебя мужчину, – бросил Рудигер, вытирая руки.
Доремус оглянулся, проверяя, не стали ли зорче его глаза. Проводник сказал, что в этих животных есть магия. И в их крови, наверно, тоже.
– Надо идти за подранком, – напомнил Бальфус. – Нельзя позволить ему встретиться с самкой.
Рудигер промолчал.
Доремуса вдруг затошнило. Его желудок сжался, но он подавил позыв.
На миг он увидел спутников как бы в масках, отражающих их истинную сущность. Ото стал мордастой свиньей, у Бальфуса вырос мокрый собачий нос, лицо девушки превратилось в хорошенький блестящий череп, у Магнуса снова было гладкое красивое юное лицо, как когда-то.
Он обернулся взглянуть на отца, но миг прошел, и лицо графа выглядело так же, как всегда, жестким и невыразительным. Наверно, в крови все-таки была магия.
От единорога теперь остался лишь сочащийся жидкостью мешок с костями, распластанный среди опавших листьев. Ото тронул останки сапогом, и шкура расползлась, выпуская наружу вонючий газ и желтую влагу.
– Брр, – преувеличенно сморщился Ото. – Смердит, как от гномьих порток.
Рудигер вытащил стрелу из головы единорога, проломив истончившийся череп. Он некоторое время рассматривал ее, потом сломал надвое и бросил обломки в месиво, оставшееся от трупа.
– А рог? – спросил Ото, хватаясь за него. – Разве у единорога не серебряный рог?
Рог рассыпался у него в пальцах, среди белого порошка проблескивали крупицы серебра.
– Его там чуть-чуть, магистр Вернике, – объяснил Магнус. – Оно исчезает вместе с магией. Так мало, что даже говорить не о чем.
Доремус заметил, что девушка держится подальше от останков. Такие, как она, не любят благословенного серебра. У нее красивое лицо и фигура, но он не мог забыть череп, который увидел.
Бальфусу не терпелось продолжить.
– Если раненый жеребец доберется до своих, самка узнает, что мы сделали. Она оповестит весь род. Это может стать опасным для нас.
Графа это не интересовало. После убийства он всегда бывал рассеян, за торжеством следовала раздражительность. Доремус понимал, что точно так же у отца бывает и с женщинами. Как бы чудесно все ни шло, все равно оно никогда не соответствовало его ожиданиям. Рудигер исполнительно собирал трофеи, но Доремус думал, не были ли они для отца лишь напоминанием о разочарованиях. Охотничий домик ломился от чудесных рогов, голов, шкур и крыльев, но, судя по тому, как относился к ним отец, они значили для него не больше, чем горстка пыли.
Именно сам момент убийства был для графа всем, миг, когда он властвовал над жизнью и смертью. В этом он находил удовлетворение.
– Ты подстрелил зверя, Дорри, – распинался Ото. – Чертовски отличная работа. За это стоит пропустить кружку-другую эля, дружище. Отныне и впредь ты заслужил место за столом Лиги Карла-Франца. Мы еще поднимем за тебя немало тостов до конца семестра.
– Бальфус, – опасно ровным тоном произнес Рудигер.
Лесной проводник почтительно повернулся к хозяину. Его барышня, чуть дрожа, стояла позади него.
– В дальнейшем пусть твоя потаскуха-вампирша ведет себя тихо или остается дома. Ты понял?
– Да, ваше превосходительство, – отозвался Бальфус.
– А теперь, – сказал граф, – день кончается. Охота была удачной. Мы возвращаемся домой.
– Да, ваше превосходительство.
2
Потаскуха-вампирша.
Женевьеву обзывали и хуже.
Но если бы она на самом деле решила не убивать графа Рудигера фон Унхеймлиха, ей было бы проще, не окажись он таким ублюдком.
После трехдневного пребывания в охотничьем домике фон Унхеймлихов Женевьева вынуждена была признать, что граф, похоже, олицетворял все пороки, неотъемлемо присущие, по утверждению принца Клозовски, аристократии.
Он обращался с сыном как с паршивой собакой, с подругой – как с тупоумной служанкой, а со слугами – как с плесенью в тронутой морозом палой листве, той самой, на отскребание которой с подошв его блестящих охотничьих сапог они тратили так много времени. Со странной короткой стрижкой, принятой у знати в этой северной части Империи, с полным набором предположительно эффектных шрамов по всему лицу и рукам – и остальному телу, наверно, тоже, – он был похож на выветренное гранитное изваяние, призванное заменить некогда живого красивого молодого человека.
И он убивал ради спорта.
В своей жизни она встречала немало людей, вполне заслуживавших быть убитыми. Теперь, по прошествии шестисот шестидесяти девяти лет, большинство из них мертвы в результате убийства, болезни или старости. Некоторые погибли от ее руки.
Но она не была наемным убийцей. Что бы там ни думал Морнан Тибальт, засевший в императорском дворце в Альтдорфе, передвигающий людей, словно шахматные фигуры, дергающий за ниточки множество своих марионеток.
Марионетка, еще одна роль в ее богатой коллекции профессий. И убийца?
Может, ей лучше было остаться с бедным Детлефом? Прошло бы еще какое-то время, прежде чем годы взяли бы свое и ей, с ее вечной юностью, пришлось бы поддерживать очередного престарелого любовника на закате его дней.
И ведь она до сих пор его действительно любила, правда.
Но она покинула и Детлефа, и Альтдорф. По пути в Тилею она угодила в силки Удольфо и выбралась оттуда лишь благодаря появлению Александра Клозовски. Потом в обществе революционера и его тогдашней возлюбленной, Антонии, она вернулась в Империю, путешествуя с ними за неимением других попутчиков.
Она спорила с революционером о политике, противопоставляя его пламенному, самовлюбленному идеализму свой опыт и холодный расчет.
Эта связь оказалась ошибкой, тем первым крючком, который требовался Тибальту, чтобы поймать ее. Она надеялась, что Клозовски сейчас в Альтдорфе, подготавливает заговор по ниспровержению Империи и в особенности злокозненного хозяина Имперской канцелярии без большого пальца на одной руке.
В тесной комнатке, которую она делила с Бальфусом, она скинула охотничью одежду – обтягивающую кожу прямо поверх белья – и выбрала одно из трех имеющихся в ее распоряжении платьев. Оно было простое, белое и грубое. В отличие от всех прочих обитателей охотничьего домика, она с наступлением ночи не нуждалась ни в мехах, ни в огне камина. Холод для нее ничего не значил.
В последнее время, когда полные луны последний раз в этом году пошли на убыль, она становилась все более впечатлительной. Она не пила крови уже больше двух месяцев. Клозовски позволил ей напиться однажды ночью, когда Антония была чем-то занята, да еще попался молодой стражник на стенах Миденхейма. И с тех пор – никого, ни разу.
Зубы ее царапали щеки, она то и дело прикусывала язык. Вкус собственной крови напоминал ей о том, чего она лишается. Она должна поесть, и поскорее.
Женевьева взглянула на Бальфуса, молившегося на ночь Таалу. У ее сообщника, еще одной марионетки Тибальта, были широкие плечи и задубевшая кожа на мускулистой груди и руках. Может, духом он был и слаб, зато силен телом. Что-нибудь да есть в его крови, если не острый привкус истинной силы, так, по крайней мере, достаточно благоуханной субстанции, чтобы на какое-то время погасить ее красною жажду.
Нет. Ее и так вынудили достаточно тесно общаться с лесным проводником. Она не хотела еще больше углублять их знакомство. Слишком много кровных связей хранится в ее памяти.
Кровные связи. Детлеф, Синг Той, Клозовски, Марианна, Сергей Бухарин. И мертвые, столько мертвых: Шанданьяк, Пепин, Франсуа Фейдер, Тризальт, Колумбина, Мастер По, Каттарина Кровавая, Чингиз, Розальба, Фарагут, Вукотич, Освальд. Раны, которые все еще кровоточат.
В узкое оконце виднелись экипажи, проезжающие по дороге из Мариенбурга в Миденхейм, главному пути через эти нехоженые леса. Позади охотничьего домика бежал шустрый маленький ручеек, местами уже затянутый льдом, снабжая обитателей чистой водой, унося прочь нечистоты.
Клозовски сочинил бы стихотворение об этом ручье, который попадает в дом аристократа чистым и неиспорченным и бежит оттуда весь в дерьме.
Вместе с его кровью она всосала некоторые его взгляды. Он был прав, этот порядок надо менять. Но она, как никто другой, знала, что это никогда не произойдет.
Бальфус не разговаривал с ней, когда они оставались, наедине, и почти не разговаривал на людях. Предполагалось, что она его любовница, но она была не слишком хорошей актрисой. Как ни странно, это сделало их обман намного более убедительным, чем если бы он без конца ластился к ней и докучал прилюдными ухаживаниями.
Она обладала достаточной чуткостью, чтобы обнаружить любую подозрительность, если бы таковая была. Марионетка-убийца выдержала первый экзамен.
Граф Рудигер был слишком самонадеян, чтобы думать о своей уязвимости. Он путешествовал без охраны. Если он и вспомнил, что Женевьева была подругой Детлефа Зирка, то ничем не выдал этого. Он присутствовал на премьере пьесы Детлефа «Странная история доктора Зикхилла и мистера Хайды», но никак не показал, что заметил тогда вампиршу.
Это произошло неделю спустя после того, как она рассталась с Клозовски и Антонией. Она притащилась в Миденхейм, Город Белого Волка, желая забыться среди людей, утолить свою красную жажду.
Она нашла караульного на городской стене и предложила ему себя, попросив в качестве платы толику его крови. Когда она присосалась к источнику в его горле, он ошалел от удовольствия.
И тут на нее набросилась ночная стража, и ее, обнаженную, завернутую в одеяло, притащили в гостиницу в лучшей части города и оставили в темной комнате привязанной к стулу.
Через пару минут усилий она разорвала веревки, но было поздно. Пришел кукловод, и началась их беседа.
Она видела желтовато-коричневую физиономию Тибальта при императорском дворе, когда он рысью поспевал за Карлом-Францем, обряженный во все серое. Следила за его попытками обложить ежегодным налогом в две золотые кроны всех трудоспособных граждан Империи. Эта подать, прозванная налогом «с большого пальца», двумя годами раньше привела к целой серии бунтов и мятежей, во время которых сам Тибальт лишился большого пальца. Несмотря на причиненный ущерб, после этих восстаний его влиятельность и могущество только возросли.
Его главным конкурентом в борьбе за влияние на Императора был Микаэль Хассельштейн, ликтор культа Сигмара, но Хассельштейн оказался замешан в некоем скандале и удалился предаваться созерцанию и размышлениям в стенах ордена. Тибальт тоже был на премьере «Доктора Зикхилла и мистера Хайды» и решительно выступил против спектакля. Корректный, лишенный юмора, рябой и лысеющий, благочестивый Тибальт напугал Женевьеву больше, чем слуги богов Хаоса. Бесстрастно преданный Дому Вильгельма Второго, Тибальт обладал задатками тирана. И, прикрываясь патриотическим рвением и трудами по разработке новой системы законодательства, он находился в самом центре паутины интриг и двуличия и дергал за ниточки своих марионеток, исходя из собственных, а отнюдь не императорских планов, оставаясь при этом вне досягаемости для любой законной власти.
Разумеется, у министра имелись враги. Враги вроде графа Рудигера фон Унхеймлиха.
Там, в темной комнате, этот Морнан Тибальт с перебинтованной ладонью поставил ее перед выбором. Если она откажется выполнять его приказания, он отдаст ее под суд, обвинив в пособничестве печально известному революционеру Клозовски. Ее имя приплетут к целой куче заговоров против Карла-Франца и Империи. Ее былая связь с недоброй памяти семейством фон Кёнигсвальдов будет свидетельствовать против нее, к тому же, напомнил Тибальт, ее бессмертных сородичей не любят и не доверяют им. Если повезет, ее обезглавят серебряным клинком и запомнят как ту, что вдохновила Детлефа Зирка на создание сонетов «К моей неизменной госпоже». Он, Тибальт, будет настаивать на более суровом наказании: заточении в серебряных кандалах в недра крепости Мундсен, где каждый новый бесконечный день похож на предыдущий, покуда хоть капля упорства сохранится в ее нестареющем, бессмертном теле. Но если она станет его марионеткой и поможет ему осуществить его план, то получит свободу…
Если бы она послушалась своих инстинктов, то разорвала бы министру тощую глотку. В таком случае, по крайней мере, наказание было бы заслуженным. Но у него имелся и второй крючок: Детлеф. Тибальт пообещал, что, если она откажется с ним сотрудничать, он использует все свое значительное влияние, чтобы закрыть Театр памяти Варгра Бреугеля и организовать судебные преследования драматурга. Тибальт намекал, что не составит большого труда сокрушить Детлефа, который в последнее время стал уже не тот, что прежде. Женевьева и так была достаточно виновата перед Детлефом и понимала, что не сможет послужить причиной его дальнейших страданий.
Тибальту не требовалось объяснять ситуацию, сложившуюся между ним и графом. О ней и так все знали. Тибальт был сыном дворцового клерка, поднявшимся из низов благодаря собственному уму, решимости и шантажу, вымогательству и двуличию тоже. Он окружил себя такими же людьми, бесцветными тружениками без роду без племени, проложившими себе путь к преуспеванию скрипучими перьями, людьми, которые исподволь втерлись в дела Империи и сделались необходимыми. Тибальт и ему подобные никогда не обнажали меч в битве, не утруждали себя изучением необходимых при дворе манер. Они носили одинаковые скучные серые одежды в знак протеста против цветистого щегольства чистокровных аристократов, которых считали паразитами и нахлебниками.
Граф Рудигер фон Унхеймлих был шефом Лиги Карла-Франца, знаменитого студенческого общества при Университете Альтдорфа, и необъявленным, неофициальным лидером старой гвардии, семей, служивших Императору со времен Сигмара, всех тех обветшалых и косных чистокровных аристократов, которые командовали армиями Империи и снискали своими победами славу имени Карла-Франца.
Граф редко удостаивал визитами крупные города Империи, но Карл-Франц и его наследник Люйтпольд множество раз гостили в охотничьем домике, выстроенном семейством фон Унхеймлихов в бескрайних лесах Талабекланда. Карл-Франц доверял Рудигеру, а граф был не тем человеком, чтобы молчать, видя нашествие серых человечков с гроссбухами, сосущих жизненные соки из Империи. После бунтов, вызванных введением налога «на большой палец», именно выпускники Лиги Карла-Франца, а не перемазанные чернилами бюрократы из казначейства помогали восстановить порядок.
Пока Морнан Тибальт валялся в госпитале, оплакивая свой утраченный пальчик, а Империю, прознавшую про альтдорфские восстания, лихорадило, именно граф Рудигер созвал коллегию выборщиков и еще девятнадцать баронов из лучших семей в своем охотничьем домике. Там они разработали план, позволивший предотвратить революцию.
«Мы снова будем Непобедимыми», – сказал он, и Империя вспомнила былые дни, дни политиков-воинов вроде графа Магнуса Шеллерупа. После месяцев кровопролития все вновь склонились перед Домом Вильгельма Второго.
В этом же году, позднее, граф Рудигер и Император собирались встретиться вновь на церемонии по поводу вступления принцем Люйтпольдом в пору зрелости. Там должны были собраться и выборщики, и девятнадцать баронов. И Морнан Тибальт боялся, что тайное совещание между этими потомками великих родов Империи может привести к ниспровержению одного серого сына клерка.
«Граф должен умереть, – сказал ей Тибальт, – и таким образом, чтобы эта смерть не вызвала вопросов. Если получится, несчастный случай. Если придется, простое убийство. В любом случае указующий перст должен быть направлен в другую сторону. Фон Унхеймлих – охотник, самый лучший в Империи. А вы, мадемуазель Дьедонне, хищница. Полагаю, что ваше противостояние будет захватывающим».
У Тибальта уже имелась в нужном месте одна марионетка, Бальфус. Но проводник был просто шпионом. А министр нуждался в убийце.
Женевьева отвечала требованиям.
Бальфус окончил свое богоугодное занятие и поднялся. «Интересно, – подумала Женевьева, – на каком крючке Тибальт держит его?» Должно быть, знает насчет проводника нечто такое, что могло бы уничтожить его.
Он не упоминал про ее сегодняшнее прегрешение. Как бы там ни было, благодаря этой ошибке она еще больше будет казаться пустоголовой куклой. Теперь граф, может, и презирал Женевьеву в высшей степени, но не опасался, не подозревал ее.
Она вспомнила, как он вел себя в лесу. Его обращение с сыном, Доремусом. Его нетерпимость и раздражительность.
Он обозвал ее вампиршей-потаскухой.
Ее клыки уперлись в нижнюю губу, и она ощутила их остроту. В глазах ее, должно быть, вспыхнул красный огонь.
Она вспомнила Доремуса, глотающего кровь единорога, чтобы стать мужчиной. Она слышала про этот обычай, но никогда не видела, чтобы ему следовали. Ее потрясло такое варварство. А она, родившаяся в эпоху варварства и пережившая ее, испытывала ужас при виде подобных вещей.
«И в качестве повода к размышлению, – сказал Тибальт, – у графа есть сын и наследник, Доремус. Как мне говорили, весьма чувствительный юноша. Надежда рода фон Унхеймлихов. У него нет ни братьев, ни кузенов, чтобы унаследовать имя. Кажется маловероятным, чтобы этот Доремус смог заменить отца среди девятнадцати, но я терпеть не могу оставлять оборванные нити. У них есть обыкновение цепляться за что-нибудь, и тогда распутывается весь клубок. После устранения графа позаботьтесь и о сыне тоже. Как следует позаботьтесь о сыне».
3
– Графиня Серафина была красивой женщиной, – сказал граф Магнус. – Это трагедия – умереть такой молодой.
Доремус смотрел на портрет, висящий в столовой, размышляя, что скрывалось за лицом матери, которой он никогда не знал.
Она была изображена в лесу, стоящей на коленях возле ручья, среди весенних цветов. В ее острых тонких чертах проскальзывало невозможное сходство с эльфами. А деревья отбрасывали тени на ее лицо, словно живописец провидел несчастье, которое погубит ее. Двадцать лет назад в этих самых лесах она упала с лошади и сломала свою тонкую шею.
– И если когда-нибудь ты склонен будешь судить своего отца слишком строго, мой мальчик, вспомни про его великую утрату.
Магнус положил ладонь ему на шею и ласково сжал, ероша волосы.
– Какая она была, дядя?
Магнус стал для него «дядей» еще в детстве, хотя и не был родным по крови.
Граф улыбнулся той половиной рта, которая его слушалась, и шрамы его порозовели.
– Красивее, чем на картине. У нее был дар. Она делала людей добрее.
– Она была…
Магнус покачал головой, оборвав его на полуслове:
– Довольно, мальчик. У нас с твоим отцом слишком много старых ран. И они болят с прошлой Тихой Луны, когда год идет к концу.
Слуги установили в нише свечи и подали на стол ужин. Ужин охотников. Мясо дневной добычи и лесные плоды.
Его отец сидел во главе стола, осушая уже третий рог с элем, пересказывая дневные подвиги своей теперешней подруге, Сильване де Кастрис, и Ото, который хоть и был на охоте, казалось, слушал рассказ с не меньшим интересом.
Граф уже пришел в себя после недолгой мрачности, в которую повергало его каждое убийство, и оживленно комментировал каждый шаг зверя, каждый скрип лука, каждую судорогу жертвы.
В Сильване было нечто, заставляющее Доремуса вспоминать портрет матери, хотя она, на пороге двадцатишестилетия, уже была на пять лет старше, чем Серафина в момент смерти. Он предполагал, что именно это сходство привлекло отца к непримечательной во всех иных отношениях женщине, не достигшей тогда еще даже брачного возраста младшей дочери – слуги шептались, что она бесплодна, – богатого торговца из Миденхейма. В двадцать шесть Сильвана стала уже старовата для своей роли. Граф всегда предпочитал делить ложе с женщинами-детьми. Доремус с ужасом и смятением отметил, как смотрел его отец на вампиршу Бальфуса. Рудигер видел только шестнадцатилетнее лицо, а не шестисотлетнюю душу.
Граф взял невидимый лук и скупо улыбнулся, демонстрируя свой верный прицел.
Ото Вернике пил наперегонки с Рудигером, и это уже становилось заметно. Он был магистром ложи, организованной Лигой Карла-Франца при Альтдорфском университете, и тем самым удостоился покровительства графа, некогда тоже занимавшего эту должность.
Ото был великим князем чего-то загадочного, выдвинувшимся из себе подобных заурядностей не благодаря каким-то воинственным подвигам его семьи, но потому, что льстивый ростовщик, его дед, открыл неограниченный кредит выборщику-моту. После этого семестра Ото должен был покинуть университет, чтобы предаваться любимым забавам – азартным играм, распутству, пьянству, дракам, мотовству – где-нибудь в другом месте, и в его обязанности входило избрать своего преемника. Для Рудигера было важно, чтобы Доремус стал следующим магистром и продолжил семейную традицию. Доремус являлся членом Лиги Карла-Франца, но редко участвовал в ее легендарных разнузданных празднествах, причисляя себя к существовавшей в университете группировке более прилежных студентов, «чернильниц».
Ото слишком громко рассмеялся в ответ на какое-то замечание Рудигера.
Ото председательствовал на церемонии посвящения Доремуса, во время которой нужно было поднять с земли лесное яблоко голым задом и без штанов трижды обежать кругом внутренний двор колледжа, не выронив плод, потом выпить пять больших рогов крепкого пива и после этого повторить наизусть задом наперед родословную Дома Вильгельма Второго.
С того памятного мероприятия Доремус не обменялся с Ото и несколькими фразами и очень удивился, узнав, что Вернике приглашен на эту охоту. Конечно, на Ото, первого из магистров ложи, выходца не из семьи выборщика или одного из девятнадцати баронов, произвело большое впечатление то, что его пригласила столь важная особа, как граф Рудигер. С момента их выезда из Альтдорфа в Миденхейм и до прибытия в охотничий домик графа он был назойливо заботлив и общителен с Доремусом.
Граф пустил невидимую стрелу и рассмеялся, вспомнив свой верный прицел и меткий выстрел.
Сильвана захлопала в ладоши, стараясь одновременно изобразить на лице восторг и не нарушить слой пудры вокруг глаз и губ.
Ото таращился в ложбинку между грудей Сильваны, похожую на долину среди холмов, и пускал слюнки пополам с пивом.
Граф, разумеется, не мог не заметить интерес гостя к его подруге. Доремусу было любопытно, насколько радушным готов быть отец в отношении этого выскочки.
Доремус снова перевел взгляд с Сильваны на портрет матери. Графиня Серафина погибла во время очередной охоты Рудигера на единорогов. Если об этом и ходили какие-нибудь сплетни, они ни разу не достигли ушей Доремуса.
Магнус стоял перед пылающим очагом, грея у огня спину, и потягивал вино из кубка. Бальфус сидел за столом, под рукой, на случай, если графу понадобится квалифицированный свидетель, чтобы подтвердить или дополнить его рассказ. Его вампирша пряталась где-то в уголке.
Доремус сел к столу и отрезал себе кусок оленьей ляжки.
– Отличное мясо, сын! – крикнул ему Рудигер. – Самое лучшее, поскольку свежее.
На самом деле Доремус, возможно, предпочел бы, чтобы оно полежало денек-другой, но отец настаивал, что убитая утром добыча должна быть съедена вечером.
– Чтобы по-настоящему оценить вкус мяса, его нужно добыть самому, – громко объяснял Рудигер. – Таков закон леса, право клыка и когтя. Мы все – и охотники, и жертвы. Я просто помню это лучше других.
Доремус прожевал сочное мясо и отрезал себе хлеба. Анулка, смуглая девушка-служанка с отсутствующим взглядом, принесла ему кувшин вина со специями. Его ноги и спина ныли после целого дня в лесу, но он проголодался сильнее, чем думал.
Ото где-то отыскал лютню и принялся распевать непристойные песни. Доремус, уставший от шума, налил себе бокал вина в надежде, что оно поможет отгородиться от этого гвалта.
«У отважного цирюльника такой большой стручок, – пел Ото, – а у дочки булочника щелка-то сладкая…»
4
– Жаль, что на столе нет блюда из единорога, граф, – осмелился сказать Ото.
Он устал, самоотверженно развлекая остальных. Какой-то чертов слуга отобрал у него лютню. Он рассчитывал, что Рудигер немедленно прикажет высечь и вышвырнуть парня за дерзость, но граф непонятно почему не стал вмешиваться. Наверно, не хотел поднимать шум во время обеда.
– Единорог – не дичь, – ответил старый охотник. – Единорог вообще едва ли животное.
– А это рог единорога на стене? – спросил Ото, прекрасно зная, что да, но желая отвлечь внимание графа Рудигера.
Пока он нагонял на всех скуку охотничьими баснями, то не смотрел на Сильвану. А когда он на нее не смотрел, женщина водила по ноге Ото под столом проворными пальчиками, пощипывала его бедро, возбуждая его интерес.
Сильвана де Кастрис целыми днями глаз не сводила с Ото, и сегодня ночью, если старый Рудигер как следует напьется, между ними случится то, что скрасит эту скучную поездку. С тех пор как он в последний раз ходил к проститутке, прошла неделя, и яйца у него уже горели.
Ото едва сдержал смешок, когда рука Сильваны забралась ему между ног. Ему отсюда была видна внутренняя сторона ее платья почти до пупа. У нее пышное тело, слегка веснушчатое, как раз такое, как он предпочитал у проституток.
После целого дня охоты нет ничего лучше вечеринки с едой и выпивкой и ночи с хорошей шлюхой. Среди собратьев по Лиге Ото славился своими аппетитами во всех отношениях. Для братства ненасытность их коменданта была предметом гордости. Хотя, судя по слабаку Дорри, в новом году эта традиция прервется.
Ото пытался придумать, нет ли способа не пустить Доремуса на это место и передать бразды правления одному из настоящих парней, вроде Бальдура фон Диеля, Большого Бруно Пфейфера или Догтарда Домреми.
Добытый у единорога трофей висел на щите с гербом фон Унхеймлихов. Три фута длиной, хорошо отполированный, он представлял собой правильный конус, испещренный серебряными прожилками. В домике была традиция после каждой удачной охоты наливать в рог немножко крови в качестве дани, и щит был заляпан засохшими пятнами.
Рудигер осушил кубок и приказал наполнить его снова. Служанка Анулка, аппетитная деваха с голубоватыми губами и странным выражением лица, подчинилась. Если не выйдет с Сильваной, Анулка числилась у Ото под номером вторым. Она казалась вполне подходящей для ночных игр в «куда-спряталась-сосиска».
– Да, магистр Вернике, – ответил Рудигер, – это рог самки единорога. Великолепного существа, которое выследил и подстрелил мой дед, граф Фридрих. Как вам известно, достойные внимания рога бывают только у самок единорога. Самцы, которых мы видели сегодня, выглядят жалкими по сравнению с самками. Те выше, быстрее, безбородые, наделены почти человечьим разумом. У единорогов не так, как у людей. Каждое стадо состоит из самки и шести-восьми самцов. Сильные существа эти самки единорога. Матки бодают своих новорожденных телят женского пола, так что до взрослого возраста доживают лишь сильнейшие, чтобы создать собственное стадо. Самки единорога живут дольше всех остальных, переживая всех жеребцов и спариваясь с их внуками и правнуками.
Ото громко рассмеялся и подтолкнул локтем Сильвану. Под столом, куда не проникал взгляд Рудигера, он поймал ее гладкий пальчик в кулак и принялся водить им по нему вперед и назад. Сильвана мелодично рассмеялась, и ее груди затряслись, как желе.
Во рту Ото пересохло, и ему пришлось залпом осушить бокал, чтобы не поперхнуться.
Он пил и пил эль, вино, эсталианский херес и грубый драквальдский джин. Он всегда смешивал напитки, и желудок никогда еще не подводил его.
– Вы охотились на самку единорога?
Ото оглянулся. Женевьева, девушка-вампир, осмелилась задать графу вопрос.
Повисла пауза. Ото ждал, что граф сейчас набросится на нахальную пиявку. Вместо этого Рудигер отхлебнул эля и покачал головой:
– Нет, но буду. Завтра. И вы все составите мне компанию.
В наступившей тишине слышно было, как потрескивает огонь.
– Это палка о двух концах, – сказал Магнус, – учитывая, что об этом говорят.
Все смотрели на старого северянина.
– А что об этом говорят? – спросил Ото, пытаясь поднять компании настроение.
– Из всех, кто охотится на самку единорога, домой вернется только один. Это знают все, и в Драквальде, и на севере.
– Предрассудки, – фыркнул Рудигер.
– И, тем не менее, это часто оказывается правдой. Еще ребенком я гостил в этом охотничьем домике, когда граф Фридрих отправился за тем рогом. И я был тут, когда он вернулся, сжимая рог в руке. Ушли пятеро. Включая вашего отца, Рудигер. И только один вернулся.
Граф умолк. Хотя о Фридрихе часто упоминалось в преданиях и песнях, про деда Дорри, Лукаса, не говорилось почти ничего.
– Вы боитесь, дружище?
Магнус покачал головой:
– Нет, Рудигер, не боюсь. Я слишком стар для этого.
– Вернулся домой, а дом-то пустой, да?
Рудигер уже объяснял, что он годами ждал возможности поохотиться на самку единорога. Обычно их можно было выследить только в промежутке между днем зимнего солнцестояния – Тихой Луной и празднованием начала нового года – Ведьминым Днем. И подобные случаи, несмотря на множество историй, были редки.
– Сегодня мы лишили нашу самку двоих самцов. Это разозлит ее. Завтра мы должны разыскать ее, или она сама придет за нами. Вот и все.
Ото решил, что ему стоит продемонстрировать некоторый энтузиазм.
– Славная охота, – заявил он. – Я играю.
Он хлопнул по столу, заставив звякнуть ножи, и отправил в рот кусок мяса, залив его сверху элем. Сильвана села очень прямо, отняв у него руку.
– Сегодня ночью, – шепнула она, – снаружи… Будет холодно, но члены Лиги не боятся неудобств.
– Это будет занятное приключение, – сказал Ото с набитым ртом. И рыгнул.
Рудигер неодобрительно взглянул на гостя, но он тоже был пьян, и хотя его опьянение и было не столь заметным, но более опасным.
– Извиняюсь, – выговорил Ото. Рудигер пожал плечами и улыбнулся.
– Я тоже иду, – сказал Магнус.
Дорри держал рот на замке. Но Ото знал, что маленькой «чернильнице» деваться некуда. Когда граф Рудигер объявил охоту на единорога, он говорил и за сына тоже. Придется этой тряпке лазать по кустам вслед за графом. Кабы не происхождение, Доремусу в университете приходилось бы куда хуже. Он как раз из тех, кого парни из Лиги любят извалять в дегте и перьях или привязать голышом к статуе Императора во внутреннем дворе. Не пьет, не дерется, не ходит по бабам. Все время сидит, уткнувшись носом в эти чертовы книжки. Та покойница на портрете небось тоже, как Сильвана, ходила налево, поскольку уж совсем не похоже, чтобы у малютки Дорри был такой старик, как граф Рудигер. Если подумать, он слышал кое-какие сплетни…
На серебряные нити в роге самки единорога упали последние отблески пламени, и они засверкали, словно расплавленный металл.
– Самка единорога – самый опасный зверь для охоты на свете, – сказал Рудигер.
– А кто на втором месте? – дерзко спросила вампирша.
– Самка человека, – улыбаясь, ответил граф. – Женщина.
5
Полночь. И снова она пробирается по темным коридорам, снова оживают ее ночные чувства.
«Рудигер понял бы», – подумалось Женевьеве. Он охотник. Его потребность в этом была столь же остра, как ее красная жажда.
Сегодня днем ей показалось, что Ото Вернике мог бы сгодиться. Он болван, но, безусловно, по-своему силен, импульсивен, горяч. Но сейчас в его крови полно эля и вина, а она достаточно напробовалась спиртного в бытность барменшей. Ей совершенно не нужно его похмелье. Сильвана тоже много пила, и Женевьева не была уверена, что стала бы связываться с ней в любом случае. Граф мог узнать и принять какие-нибудь крайние меры. Тот рог единорога из кости и серебра мог бы оказаться очень эффективным способом покончить с ее вампирской жизнью. Доремус был табу по той же причине, хотя юноша и привлекал ее. В нем была глубина, которую не сразу разглядишь, и это притягивало.
В эту ночь, одну из последних в году, уже идущие на убыль луны светили в застекленное окно в конце коридора. Тусклый свет холодил и успокаивал ее кожу, но горло и желудок горели от жажды.
Скоро она вынуждена будет приняться за Бальфуса. Марионетка едва ли сможет оказать сопротивление, а все уже и так решили, что она сосет из него кровь в койке. Но пока она еще может позволить себе быть более разборчивой.
Лесной проводник приспособился раскладывать перед божницей Таала цветы чеснока, чтобы защититься от нее. А под матрасом держал серебряный нож. Нож она достала обернутой в тряпку рукой и засунула в комод. Она не хотела, чтобы Бальфус запаниковал и поранил ее.
Женевьева возвращалась в обеденный зал. В золе камина еще теплились угли, слуги прибирались при свечах, унося посуду на кухню, ссорясь из-за остатков мяса и фруктов.
Они застыли, когда она вошла в зал, но, узнав ее, пожали плечами и вернулись к работе. Они знали, кто она, но знали и то, что среди домочадцев фон Унхеймлиха она стоит лишь чуть выше их. По сравнению с капризами графа Рудигера она не представляла опасности.
Здесь была девушка-служанка, лет около двадцати, темноволосая среди прирожденных блондинок, страстная среди мешковатых подруг. За обедом Женевьева ощутила интерес девушки. Ее звали Анулка, и она была с другого конца Империи, с Гор Края Мира. В тех местах водились Истинно Мертвые вампиры, и дамы, и господа, и крестьяне наперебой рады были угодить хозяевам. Анулка задерживалась около Женевьевы, приносила ей вино и еду, остававшиеся нетронутыми, и одаривала улыбками и многозначительными взглядами.
Девушка подойдет.
Анулка была у камина и ждала. Женевьева поманила ее пальцем, и та, сделав реверанс, с самодовольным видом пошла через зал, явно специально, чтобы позлить других служанок. Они повернулись к ней спиной и затрясли белыми косами, беззвучно бормоча молитвы Мирмидии.
Смуглянка взяла Женевьеву за руку и повела прочь из зала, в гардеробную. Обставлена она была небогато, но там нашлась койка с подушками, а не с соломенным тюфяком. Анулка села на кровать и, улыбаясь, распустила шнуровку на юбке, сняла шейный платок с тонкой шейки. Клыки Женевьевы удлинились и заострились, рот раскрылся. Красная жажда застила ей глаза. Она ощутила, как вытягиваются ее ногти на манер когтей, и отбросила волосы с лица.
– Нет, дитя мое, – произнес кто-то, кладя руку ей на плечо. – Не унижайся.
Она крутанулась на месте, готовая полоснуть острыми как бритвы когтями, и увидела, что человеком, влезшим не в свое дело, был граф Магнус. Она сдержалась вовремя. Ничем хорошим не кончилось бы, причини она вред этому аристократу, другу и учителю графа Рудигера.
– Эта потаскушка ищет покровителя, денег и возможности выбраться из этого места.
Блузка Анулки уже лежала у нее на коленях, ее тело в лунном свете казалось бледным и холодным. Из ее рта на грудь стекала струйка голубоватой слюны.
– Она жует дурманящие корешки, Женевьева, – сказал Магнус. – Ты отравишься.
Анулка улыбалась, как будто Магнуса здесь вовсе не было, показывая перепачканные зубы, и гладила себя, приглашая Женевьеву прижаться жадным ртом к ее телу.
Не будь она столь поглощена красной жаждой, она, наверно, разглядела бы пагубную страсть Анулки. Та была сейчас где-то далеко, взгляд ее затуманился. Служанка откинулась на спину и извивалась, словно Женевьева кусала ее. Она стонала, призывая какого-то давнего, а может, наполовину выдуманного любовника.
Магнус нашел одеяло и не без сочувствия укрыл им медленно извивающееся тело Анулки.
– Она проспится, – сказал он. – Мне это знакомо.
Женевьева взглянула на него, вопрошая без слов…
– Нет, – ответил он, – не я, мой отец. Его брат был одним из тех пяти, которые не вернулись, когда Фридрих добыл рог. Он считал, что на месте брата должен был быть он, и пытался заглушить вину грезами.
Теперь она ослабела и утратила мужество. Ее трясло, десны горели, в желудке было пусто. Она была так близка к тому, чтобы напиться, и все же недостаточно близка…
– Грезы, – задумчиво повторил Магнус.
Ничего не поделаешь. Она должна отыскать Бальфуса и овладеть им. Он будет сопротивляться, но она найдет в себе силы, чтобы справиться с ним. Ее зубы вопьются ему в шею.
Она повернулась, и у нее подкосились ноги. Магнус, неожиданно проворный для своих лет, подхватил ее.
– Слишком давно не ела, да? – спросил он. Ей не нужно было отвечать.
Он опустил ее на каменные плиты пола, холодные как лед, и прислонил к стене.
Красная жажда сделалась невыносимой. Граф расстегивал семь крошечных пуговок на рукаве куртки. Он закатал рукав и расстегнул манжету рубашки.
– Кровь будет жидковата, – сказал он, – но наше семейство чистокровное. Мы можем проследить наш род вплоть до самого Сигмара. Побочно, разумеется. Но кровь героя во мне есть.
Он протянул ей запястье, и она увидела чуть пульсирующую голубую жилку. Его сердце все еще было сильным.
– Вы уверены? – спросила Женевьева.
Магнус был нетерпелив:
– Дитя, тебе это необходимо. Пей же.
Она облизнула губы.
– Дитя…
– Я на шесть веков старше вас, граф, – сказала она.
Она бережно взяла его руку в свои и склонилась лицом к вене. Она облизала его кожу языком, ощутив медно-солоноватый вкус его пота, потом нежно надкусила кожу, всасывая хлынувшую в рот кровь.
Анулка стонала в наркотическом забытьи, а Женевьева сосала, чувствуя, как по телу разливаются тепло и покой.
И все кончилось, ее красная жажда улеглась, и она опять стала самой собой.
– Благодарю, – произнесла она, вставая. – Я ваша должница.
Граф продолжал сидеть, вытянув обнаженную руку, на которой заплывали кровью крошечные ранки. Он рассеянно уставился в окно, на самую большую из лун. По небу плыли облака.
– Граф Магнус?
Он медленно повернул голову и посмотрел на нее. Она поняла, как он, должно быть, ослаб, накормив ее. Непобедимый или нет, он был старик.
– Простите, – сказала она, исполненная благодарности.
Она помогла ему подняться, крепко обхватив вокруг огромной, как бочка, груди. Он был крупным, ширококостным, но она управлялась с ним легко, как с хилым ребенком. Ей передалась часть – слишком большая – его силы.
– Дитя, отведи меня на балкон. Я хочу показать тебе ночной лес. Я знаю, что ты лучше видишь в темноте. Это будет мой тебе подарок.
– Вы и так уже сделали достаточно.
– Нет. Рудигер был сегодня несправедлив с тобой. Я должен исправлять то, что творит Рудигер. Это часть наших уз.
Женевьева не поняла, но знала, что должна пойти с графом.
Они пересекли обеденный зал, который уже покинули слуги, и подошли к балконной двери. Облако уплыло, и в окна лился свет, падая на портрет, висящий на почетном месте среди охотничьих трофеев фон Унхеймлиха.
Магнус медлил, глядя на портрет молодой женщины среди деревьев. Женевьева почувствовала, как по телу его пробежала дрожь, и он тихо прошептал имя:
– Серафина.
Балконная дверь была открыта, и в зал врывался ночной ветерок, пахнущий листвой. Женевьева ощущала вкус леса.
Дверь должна была быть закрыта.
Ночные чувства Женевьевы напряглись, она почуяла нечто. Не опасность, но возбуждение. Возможность.
Граф Магнус даже не сознавал, что она тут. Память унесла его на многие годы назад.
Она тихонько направила его на балкон, держась в тени колонны.
Балкон шел вдоль всего дома, и с него открывался вид на склоны гор далеко внизу. Охотничий домик был выстроен на краю крутого обрыва, и подобраться к нему можно было только по боковой дороге. Опоры упирались в склон, и балкон оказывался на одном уровне с верхушками ближних деревьев. Внизу бежал ручей.
На другом конце балкона стоял человек, он свесился с балюстрады и вглядывался вниз, держа в руке бутылку.
Это был граф Рудигер.
Для Женевьевы это было бы проще простого. Усадить графа Магнуса, надеясь, что он уснет. Потом просто схватить Рудигера и сбросить вниз головой с балкона. Он размозжит себе череп, и все будет выглядеть прискорбным несчастным случаем после неумеренных возлияний.
И Морнан Тибальт останется единственным советником Императора.
Но она колебалась.
Наевшись, она испытывала великодушие и благодарность. Граф Магнус был другом Рудигера, и ее благожелательное отношение к нему распространялось и на семейство фон Унхеймлихов. Ее честь не позволит ей выполнить поручение Тибальта, пока в ней течет кровь Магнуса.
Магнус побрел от нее прочь, дрожа и пошатываясь. Она испугалась на миг, что он свалится с балюстрады. До острых камней речного ложа было футов пятьдесят-шеетьдесят.
Но Магнус крепко держался на ногах.
Рудигер не заметил их. Он глубоко ушел в свои раздумья. Он отхлебнул из бутылки, и Женевьева увидела, что граф дрожит. Она гадала, неужели он оказался настолько не лишен человеческого, что пришел в ужас от задачи, которую сам себе поставил. Он скорее вернется в этот дом на похоронных носилках с дыркой в груди, чем с победой и заветным рогом в руке.
И это также позволит Женевьеве соскользнуть с крючков Тибальта.
Рудигер всматривался во что-то внизу, под деревьями.
Женевьева услышала женский смех. И мужской, басовитый и приглушенный.
Магнус уже почти поравнялся с графом. Женевьева последовала за ним, волнуясь все сильнее.
На опушке леса в лунном свете блестели белые тела.
Магнус обнял графа, и тот, стиснув зубы, вырвался из рук друга.
Граф Рудигер фон Унхеймлих дрожал от бешенства, злые слезы катились по его лицу, глаза налились кровью и яростью. Зарычав, он раздавил пустую бутылку в руке, и стеклянные осколки градом посыпались с балкона.
Женевьева глянула вниз.
Там, у ручья, Ото Вернике, жирный, голый, похожий на свинью, покрывал женщину, сопя и хрюкая, тряся всеми своими складками и дряблыми ягодицами.
Рудигер издал вопль.
Женщина увидела зрителей, и ее глаза расширились от ужаса, но Ото слишком увлекся, чтобы замечать что-либо или думать о чем-либо, кроме собственной похоти. Он продолжал совокупляться с тем же рвением.
Женевьева видела страх на лице партнерши Ото и то, как она отталкивала тучного юнца, пытаясь высвободиться из-под него. Но он был слишком тяжел и слишком возбужден.
– Рудигер, – сказал Магнус. – Не надо…
Граф оттолкнул своего друга и стиснул кровоточащую руку в кулак, излучая холодную и трезвую ярость.
Женщина была Сильвана де Кастрис.
6
Доремус был в лесу, охотился вместе с отцом.
– Вторая из наиболее опасных тварей, – сказал граф Рудигер, – самка человека…
Они бежали быстро, быстрее, чем кони, чем волки, петляя и уворачиваясь между высоких деревьев.
Добыча все время ускользала от них.
Рядом с Доремусом бежал Магнус со свежим шрамом на окровавленном лице.
Бальфус тоже был с ними, похожий на собаку, он хватал их за пятки и облизывал нос и лоб длинным языком. А его вампирша скользила над ними на крыльях то ли бабочки, то ли летучей мыши, натянутых от лодыжек к запястьям, оскалив зубы вполлица. Рудигер продолжал бежать и тащил их всех за собой.
Они двигались так быстро, что казалось, будто они стоят, деревья бросались им навстречу, земля разлеталась из-под ног.
Доремуса пронзила боль, острая, как от удара кинжалом.
Они догнали добычу.
Они вылетели из-за деревьев на поляну и увидели свою жертву.
Рудигер выпустил из рогатки камень. Он попал жертве по ногам, и она упала, покатилась, ударилась о поваленное дерево, с хрустом ломая кости.
Лунный свет пролился на поверженную жертву.
Рудигер издал торжествующий вопль, пар поднимался от его разинутого рта, и Доремус увидел лицо добычи.
Он узнал свою мать…
…и проснулся, дрожа, весь в поту.
– Мальчик, – сказал Рудигер. – Сегодня ночью у нас охота.
Его отец стоял в дверях своей спальни, сгибая лук, чтобы поставить на него тетиву. Жилы на его шее под бородой туго натянулись.
Слуга стоял наготове с охотничьим костюмом Доремуса. Юноша вылез из постели, босые ноги обожгло холодом на каменном полу.
Этого холода было недостаточно, чтобы убедить его, что это уже не сон.
С его отцом был граф Магнус, и Бальфус, и Женевьева.
Доремус не понимал.
– Вторая из наиболее опасных тварей.
Он натянул одежду и принялся сражаться с сапогами. Он постепенно просыпался. Снаружи была еще глубокая ночь.
На единорогов охотятся днем. Тут что-то другое.
– Мы охотимся ради нашей чести, Доремус. Ради имени фон Унхеймлихов. Нашего наследия.
Едва он оделся, его повлекли по коридору к выходу.
Ночной воздух тоже обжигал, студеный, пахнущий деревьями. Магнус держал зажженные фонари. Бальфус охаживал плеткой двух псов, Карла и Франца, чтобы разозлить их до бешенства.
Землю припорошило снегом, и хлопья все еще лениво слетали с неба. Они таяли на его лице, превращаясь в холодные мокрые кляксы.
– Эта шлюха опозорила наш дом, – сказал Рудигер. – Наша честь должна быть восстановлена.
Сильвана дрожала, стоя между двух слуг, изо всех сил старавшихся не касаться ее, словно она подцепила чуму. Она была одета в странную смесь мужских и женских одежд, частью дорогих, частью дешевых. Шелковая блузка была заправлена в кожаные брюки, на ногах были старые охотничьи сапоги Рудигера. Поверх всего был надет жилет из воловьей кожи. Волосы в беспорядке рассыпались по лицу.
– А этот глупец оскорбил наше гостеприимство и показал, что недостоин своего места.
Глупец был Ото Вернике, одетый так же, как Сильвана, смеющийся с деланой беззаботностью.
– Это шутка, да? Дорри, объясни своему отцу…
Сильвана хладнокровно залепила пощечину коменданту охотничьего домика Лиги Карла-Франца.
– Идиот, – бросила она. – Не унижайся, не доставляй ему удовольствия…
Ото снова засмеялся, тряся подбородками, и Доремус увидел, что он плачет.
– Нет, я хотел сказать, ну, это просто…
Рудигер смотрел на Ото бесстрастно и сурово.
– Но я же магистр, – выговорил Ото. – Салют Карлу-Францу, салют Дому Вильгельма Второго.
Он отсалютовал трясущейся рукой.
Рудигер хлестнул его по лицу парой кожаных перчаток.
– Трус, – бросил он. – Если ты посмеешь еще раз упомянуть Императора, я убью тебя прямо здесь и скормлю твою печень собакам. Ты понял?
Ото отчаянно закивал, но промолчал. Потом он схватился за живот, и лицо его стало серо-зеленым.
Он рыгнул, и из его рта вытекла желтая струйка.
Все, включая Сильвану, отступили подальше.
Ото упал на четвереньки и затрясся всем телом, как заколотый боров. Он широко разинул рот, и оттуда фонтаном изверглось все, что он успел проглотить. Это была прямо-таки чудовищная рвота, достойная войти в легенды. Он давился, рыгал и блевал, пока в желудке не осталось ничего, кроме желчи.
– Семь раз, – сказал граф Магнус. – Я думаю, это рекорд.
Ото натужился и сделал это в восьмой раз.
– Вставай, свинья, – приказал Рудигер.
Ото послушался и поднялся.
– У волка есть клыки, у медведя когти, у единорога рог, – сказал Рудигер. – У вас тоже есть оружие. У вас есть мозги.
Ото взглянул на Сильвану. Женщина стояла спокойно, с дерзким видом. Без косметики на лице она выглядела старше и сильнее.
– И у вас есть это.
Рудигер достал два острых ножа и протянул Сильване и Ото. Женщина взвесила свой в руке и поцеловала лезвие. Глаза ее были холодны.
Ото не знал даже, как держать нож.
– Ты должна знать, – обратился Рудигер к Сильване, – что, когда я охочусь на тебя, я люблю тебя. Просто люблю, а не мщу. То зло, что ты причинила мне, ушло, забыто. Ты добыча, я охотник. Мы ближе друг другу, чем когда-либо, ближе даже, чем бывали как мужчина и женщина. Важно, чтобы ты понимала это.
Сильвана кивнула, и Доремус догадался, что она так же безумна, как его отец. Эта игра закончится смертью…
– Отец, – сказал он, – мы не можем…
Рудигер взглянул на него с гневом и разочарованием.
– У тебя сердце твоей матери, мальчишка, – сказал он. – Будь мужчиной, будь охотником.
Доремус вспомнил свой сон, и его затрясло. Он уже видит все иначе. В нем кровь единорога.
– Если вы дотянете до рассвета, – сказал его отец Сильване и Ото, – вы свободны.
Рудигер взял у слуги вощеную соломинку и поднес к пламени одного из фонарей Магнуса. Соломинка занялась и начала медленно тлеть.
– У вас есть время, пока она горит. Потом мы пойдем за вами.
Сильвана вновь кивнула и шагнула во тьму, медленно растворяясь в ней.
– Граф Рудигер… – просипел Ото, утирая рот.
– Времени мало, боров.
Ото уставился на горящий конец соломинки.
– Да беги же, Вернике, – велел граф Магнус.
Решившись, комендант охотничьего домика встряхнулся и порысил прочь. Жир так и колыхался под его одеждой.
– Снег кончается, – сказал Магнус, – и тает на земле. Жаль. Он бы тебе помог.
– Мне не нужен снег, чтобы читать следы.
Соломинка догорела уже почти до половины. Рудигер забрал у Бальфуса собак, держа их за ошейники одной рукой.
– Ты и твоя кровавая сучка останетесь здесь, – приказал он проводнику. – Я возьму только Магнуса и своего сына. Этого достаточно.
Бальфус, казалось, вздохнул с облегчением, но Женевьева, которая этой ночью выглядела куда живее, разозлилась, что ее не берут. По каким-то причинам вампирша хотела участвовать в охоте. Конечно, ей должно быть привычно охотиться на вторую из наиболее опасных тварей.
Соломинка превратилась в искорку в пальцах Рудигера, и он щелчком отбросил ее прочь.
– Пошли, – произнес он, – пора на охоту.
7
У Ото Вернике было такое чувство, будто кто-то засунул внутрь него раскаленную докрасна кочергу и шурует в его потрохах.
Он не представлял, в какой части леса находится. И был напуган, как никогда в жизни.
Вот драки – это его стихия. Выйти на затянутые туманом улицы Альтдорфа с друзьями по Лиге и схлестнуться с «Крючками» или с «Рыбниками» в доках, или со сборщиками налога «на большой палец» на улице Ста Трактиров, или с треклятыми революционерами. Там была настоящая драка, настоящая храбрость, настоящий почет. Хорошая драка с хорошей попойкой и хорошим сексом потом.
Рудигер задался маниакальной целью убить его. Граф фон Унхеймлих ничем не лучше Зверя, того революционера-мутанта, который разорвал на части полдюжины проституток в Альтдорфе два года назад. В тот день, когда этого демона разоблачили, Ото хорошо подрался.
Вот Ефимович был как раз из тех существ, на кого надо охотиться ночью. Он, наверно, к этому приспособился бы.
Ноги его горели в чужих сапогах, и он промерз до костей.
Где сейчас Сильвана? Это она втравила его во все это; теперь ее долг спасти его жир от топки.
Жир тянул его к земле. Раньше он никогда не мешал Ото. Мясо и выпивка сделали свое дело.
Бежать – это, конечно, хорошо, но он то и дело налетал на деревья и ранил лицо и рвал одежду. Несколько минут назад он упал, повредив лодыжку. В ней все еще пульсировала боль, и он боялся, что сломал себе что-нибудь.
Это просто ночной кошмар.
Он не мог припомнить, как все случилось. Он и пробыл-то на этой шлюхе Сильване минуту-другую, как его оттащили и оглушили пощечиной.
Граф Рудигер ударил его.
Вот почему его так тошнило.
Древесная ветка, торчащая до нелепого низко, выросла из тьмы и хлестнула его по лицу. Он почувствовал, как из носа потекла кровь, и еще понял, что зубов тоже больше нет.
Хотел бы он быть теперь в Альтдорфе, похрапывать в своей постели, видеть во сне горячих женщин и холодное пиво.
Если он выберется отсюда, он вступит в орден Сигмара. Даст обеты умеренности, целомудрия и нестяжательства. Принесет жертвы всем богам. Раздаст деньги беднякам. Отправится миссионером в Темные Земли.
Если бы только ему позволили жить…
Он поднырнул под ветку и заковылял дальше.
И его кровь, и деревья, на которые он налетал, станут следом, по которому пойдет граф. Охотники хорошо разбираются во всей этой ерунде, выслеживая жертвы по царапинам на коре и примятым хворостинкам на земле.
Милосердная Шаллия, он хочет жить!
Он снова увидел, как стрела графа вонзается в голову единорога, как лопается янтарный глаз, как наконечник появляется из гривы.
И вдруг у него под ногой не оказалось земли, и Ото упал. Он ударился о камень коленом, потом спиной, головой, задом. Он катился по откосу, налетая на камни и ветки. Наконец он остановился и замер, лежа лицом кверху.
Он будет просто лежать и ждать стрелы графа.
Это уж всяко не хуже, чем бегать впотьмах.
Над собой он видел луны, Маннслиб и Моррслиб.
Он обратился к Морру, богу смерти, моля того подождать. У него еще впереди экзамены, которые нужно сдать, жизнь, которую нужно прожить.
Боль в желудке опять напомнила о себе, и он перекатился на живот. В нем уже не могло остаться ничего, что можно было бы отрыгнуть, но брюхо его сокращалось, и он кашлял, давясь желчью.
Вот так он и умрет.
Он опустил лицо в ледяную грязь и ждал стрелы в спину.
После него останутся три непризнанных незаконнорожденных ребенка, о которых ему известно, да неоплаченные счета из дюжины таверн. Он не знал точно, убил ли кого-нибудь, но он швырял камни и ножи в драках, и сколько угодно народу могло умереть от его кулаков. Он служил своему Императору и с нетерпением ждал, когда же придет время защищать Дом Вильгельма Второго от врагов.
Острие вонзилось ему между лопаток, и он знал, что это конец.
– Убивай, – сказал он, перекатившись снова и подставляя мечу брюхо. – Убей меня в лицо.
Графа позади него не было.
Вместо этого оказалось, что он уставился в огромные янтарные глаза, посаженные по обе стороны длинной морды. Животное ткнуло его растущим между глаз сияющим рогом.
Самка единорога вздохнула, из ее ноздрей вылетело облачко пара.
Единороги – те же лошади с рогами, только у лошадей не бывает такого выражения лица.
Эта самка улыбалась, она смеялась над ним. Глаза самцов застилал туман, но у самки они были ясные, горящие, тревожные.
Он застыл, чувствуя, как между ног у него потекла струйка, наполняя штаны теплой влагой.
Самка насмешливо заржала и убрала рог.
Она была выше любой кавалерийской лошади, какую Ото когда-либо видел, с длинной гривой и мощными мышцами. Очень сильная, она казалась одновременно гибкой и женственной.
Ото, как бы ни был перепуган, не мог не воспринимать ее как женщину.
В первый раз в жизни Ото Вернике видел нечто, показавшееся ему прекрасным.
Потом она исчезла, белый сполох во тьме.
Ото не мог поверить своему счастью. Он облегченно всхлипнул и громко рассмеялся, давая выход бушующим внутри него чувствам.
Потом он услышал, что к нему приближаются другие звери.
Они рычали, лаяли, стремительно сокращая расстояние между Ото и собой.
Два пса вылетели из тьмы и вонзили зубы в его жир.
Ото завопил.
8
Доремус скользил по склону, раскинув для равновесия руки, к тявкающему, визжащему клубку.
– Карл! Франц!
Он звал собак, но они не слышали или не слушали.
Позади, на гребне холма, стоял Рудигер и смотрел, как собаки рвут Ото.
Это зашло слишком далеко. Он не намерен дать убить этого толстого олуха. Непохоже, чтобы отец так уж беспокоился о своей любовнице. Насколько Доремус мог судить, он скоро бросил бы Сильвану. Вполне естественно, что женщина принялась подыскивать себе другого покровителя. Конечно, она проявила дурной вкус, но Ото все-таки герцог, хоть и худородный выскочка.
– Карл! – заорал Доремус, и собака подняла голову. Зубы ее были измазаны красным.
Он схватил Карла за ошейник и оттащил. Франц вгрызался в колено Ото, разрывая материю, чтобы добраться до плоти.
Магистр ложи был еще жив. Похоже, он даже не слишком сильно пострадал. Лицо и шея исцарапаны, но собаки не знали вкуса человеческого мяса.
Доремус оттащил Франца.
Угомонившись, собаки уселись и распустили слюни. Доремус потрепал их по головам.
Ото стонал и плакал.
Доремусу почему-то вспомнился Шлихтер фон Дюрренматт, низкорослый парень, который не прошел посвящения в Лигу Карла-Франца. Ото и его дружки безжалостно пинали и избивали мальчишку, бросили голым в Рейк, советуя плыть домой, к мамочке. Доремус хотел бы, чтобы Шлихтер, теперь послушник Мананна, оказался тут и посмотрел на вонючего, униженного Ото Вернике.
Доремус бросил Ото платок.
– Утрись, – велел он.
К ним уже подошли его отец и Магнус. Рудигер не пытался вмешиваться и холодно смотрел, как всхлипывающий Ото, из чьих детских глаз слезы ручьем лились на лицо жирного развратника, протирает свои раны, вздрагивая от прикосновений платка.
– Эта добыча совсем жалкая, – сказал Рудигер. – Даже на память взять нечего.
– Отрежь ему, по крайней мере, уши, – предложил Магнус, мягкой усмешкой показывая, что шутит.
Ото, не видевший улыбки, захныкал.
– За то, что он сделал, я бы лучше отрезал ему яйца, – без улыбки ответил Рудигер. – Но мужчина есть мужчина, он не несет особой ответственности за то, что творят его чресла.
– Самка, – вспомнил Ото. – Она была здесь…
Рудигер улыбнулся.
– Вот как? Куда лучшая добыча, чем ты, хотела оказаться на твоем месте? Но это ни к чему. Единорог у нас запланирован на завтра. Сегодня мы охотимся за самкой человека.
Магнус был озабочен.
– Это может оказаться опасным. Единороги не соблюдают охотничью этику.
Ото обхватил себя руками, трясясь от страха и xoлода.
– Господин Вернике, – произнес Рудигер, – слушайте меня внимательно…
Ото заткнулся и, полусидя, воззрился на графа.
– Возвращайтесь в охотничий домик, и повозка отвезет вас в Миденхейм. Скажете кучеру, что вы должны уехать до того, как я вернусь с этой охоты.
Ото кивнул, лицо его расцветало облегчением. Он склонился поцеловать сапог Рудигера. Граф пихнул его в грудь и с отвращением заворчал.
– Мой сын будет следующим магистром ложи?
Ото повторил «да» несколько раз, исходя обильными слезами.
– И он восстановит честь Лиги Карла-Франца.
Магнус помог Ото подняться. Было ясно, что добыча обмочилась. Даже Доремус уже не испытывал отвращения к этому дураку.
– Прочь с моих глаз, – приказал Рудигер.
Ото нервно поклонился и полез вверх по склону, пыхтя и хрюкая, роняя изо рта пену.
Последнее, что заметил Доремус, – его пышный зад, исчезающий за гребнем холма.
– Когда рассветет, он отыщет дорогу, – сказал Магнус.
Рудигер пожал плечами и с упорством двинулся дальше.
– Женщина предпочла левый рукав ручья, вот тот, – сказал он. – Она направилась к ручью, чтобы сбить собак со следа.
– Отец? – выговорил Доремус. Рудигер и Магнус оба повернулись к нему.
– Что? – спросил Рудигер, опасно сверкнув глазами.
– Ничего.
– Тогда пошли. Через час рассвет, и добыча ускользнет.
Доремуса охватил стыд, но он зашагал следом за двумя охотниками.
Рудигер был прав. Собаки шли по следу Сильваны до ручья, а там растерялись. Граф спустил их с поводков, зная, что они отыщут дорогу домой.
– Теперь это наша работа. Мужчина охотится на женщину. Так устроен мир, сын мой. Мужчина охотится на женщину.
– Пока она не поймает его, – добавил Магнус, закончив пословицу.
Они шли вдоль ручья вглубь леса. На небе уже появились предрассветные краски и, просеиваясь сквозь листву, превратились в волшебное сияние.
– Времени достаточно, – бросил Рудигер.
– Мы возле Ущелья Кхорна, – сказал Магнус, сотворив охранный знак Сигмара при упоминании этого жуткого имени.
Ущелье Кхорна было глубоким провалом в почве, глубиной футов триста-четыреста, разрезавшим лес надвое, словно по холму ударил гигантский топор. В ущелье низвергался водопад, и местная легенда гласила, что, когда возле водопада свершается злодеяние, воды его окрашиваются красным. Это, конечно, была чепуха, хотя Доремус слышал, что у этой воды действительно странные свойства. Лесные жители называли ее целительной. Ребенком он сильно рассадил себе лоб, и Магнус умыл ему лицо водой из Ущелья Кхорна, и рана затянулась, будто ее никогда и не было.
– Хорошо, – отозвался граф. – Через него ей не перебраться.
Они вышли из-за деревьев и встали на краю ущелья. Доремус слышал, как падает вода в небольшое глубокое озерцо на дне, и видел, как вода стремительно обрушивается с другого края ущелья вниз.
– Где эта потаскуха? – выругался Рудигер, накладывая стрелу и натягивая тетиву.
Спуститься вниз Сильвана не могла. Ущелье, как и озеро, было бездонным. Множество лесных жителей сложили здесь свои кости.
Доремус посмотрел вниз, потом по сторонам и, наконец, вверх.
Ущелье было достаточно широким, чтобы через него смог перепрыгнуть даже атлет, но кроны разросшихся деревьев встречались и переплетались над ним, образуя единый полог. Он не увидел женщину, но смог разглядеть, как шевелятся сучья под чьей-то тяжестью.
Доремус промолчал, но его отец все равно посмотрел наверх.
– Хитрая девка, – сказал он, прицеливаясь в шевелящиеся ветви.
Магнус положил руку на плечо друга.
– Рудигер, – сказал он. – Не надо. Пусть на этом все и кончится. Твоя честь восстановлена!
Граф стряхнул руку Магнуса, лицо его вспыхнуло холодной яростью.
– Моя честь, Магнус? Ты не всегда так заботился о ней.
Магнус попятился, словно ему дали пощечину, и опустил взгляд. Рудигер прицелился снова. Теперь Доремус увидел Сильвану. Она уже почти перебралась на ту сторону, ее ноги повисли над водопадом.
– Рудигер! – вскрикнул Магнус.
Потом все случилось быстро и сразу. Доремус крутил головой, пытаясь уследить за происходящим. Где-то в глубине сознания время от времени вспыхивало озарение.
Его отец выпустил стрелу, и та понеслась к цели. Совсем рядом, в лесу, раздался треск и мелькнула чья-то крупная тень. Сильвана не вскрикнула, когда стрела пробила ей бок, но Доремус слышал, как рвались ее одежда и кожа, когда в них вошел зазубренный наконечник. Протест Магнуса замер у того на губах. Копыта с силой ударили о землю, согнулись молодые деревца. За ними из чаши появилась огромная голова, янтарные глаза горели, острие рога сверкало, словно молния. Рудигер уже послал вторую стрелу. Сильвана забилась среди ветвей, за которые все еще цеплялась, и листья посыпались вниз, словно мертвые птицы, уносимые прочь стремительным потоком падающей воды. Рог самки единорога пронзал пространство, и Доремус знал, что она ударит его отца, проткнет его насквозь, сбросит с края Ущелья Кхорна.
Вторая стрела Рудигера угодила Сильване выше, в плечо, и она теперь могла держаться только одной рукой. Сучья скрипели и трещали. Магнус обхватил шею единорога, и самка обратила рог против него.
Это было крупное, удивительное создание, серебристо-белое и древнее. Сильвана невозможно медленно падала в воду. Рог вонзился Магнусу между ребер. Сильвана со всплеском ударилась о самый край водопада и уцепилась за камень, торчащий посреди потока. Единорог мотнул головой и стряхнул Магнуса, из раны струей вытекала густая липкая кровь. Рудигер уже держал наготове очередную стрелу.
Магнус ударился оземь и заскользил к краю ущелья, и Доремус, очнувшись, наконец, кинулся к нему. Руки Сильваны оторвались от скалы, и ее подхватил водопад. Единорог взревел, его голос слился с криком женщины. Рудигер отвернулся от своей жертвы и встретился взглядом с самкой единорога. Доремус уцепился за Магнуса и тянул его прочь от обрыва. Сквозь листву пробился солнечный луч и заиграл на наконечнике стрелы Рудигера и на кончике рога самки. Магнус бормотал что-то. Рудигер и единорог глядели друг на друга, его стрела смотрела в землю, ее рог – в небо.
– Мальчик мой, – сквозь агонию выговорил Магнус.
Единорог, не поворачиваясь, попятился и скрылся в лесу.
На миг все остановилось.
– Мальчик мой, я должен сказать тебе…
Доремус вслушивался, но Магнус лишился чувств.
Его грудь еще вздымалась и опускалась, но меховая одежда насквозь пропиталась кровью.
– Отец! – окликнул Доремус. – Помоги мне с дядей, помоги мне!
Он смотрел на графа, снимавшего тетиву с лука. Отец Доремуса уставился вдаль, на ту сторону ущелья.
При первом свете дня струи водопада казались красными от крови.
9
Сначала из ночи приковылял Ото, вопя, что ему нужен кучер, а за ним по пятам шли собаки. Едва коляска была готова, магистр ложи Лиги Карла-Франца покинул их, не сказав Женевьеве ни слова на прощание, трясясь рядом со своими наспех собранными чемоданами.
Потом, сразу после рассвета, вернулись остальные. Рудигер и Доремус поддерживали Магнуса.
– Держись от него подальше, кровопийца, – предупредил ее Доремус, когда она подошла помочь.
Магнус, едва пришедший в себя, легонько мотнул в его сторону головой.
Граф оттолкнул своих спутников, и Женевьева приняла тяжесть Магнуса на свои руки. Для нее это был пустяк.
Она уложила его на диванные подушки в обеденном зале и разорвала одежду вокруг раны.
– Глубокая, – сообщила она, – но чистая. И ничего не сломано и не задето. Ему повезло.
За свои годы она успела научиться врачеванию, как и многому другому. Бальфус порвал скатерть на бинты. Магнус, то теряющий сознание, то приходящий в себя, вздрагивал, когда она туго бинтовала его. Немного крови просочилось сквозь повязку.
– Рана должна затянуться, – сказала она остальным.
Доремус не отходил от Непобедимого, но Рудигер не слишком интересовался, выживет ли граф.
– Нам скоро пора идти, – объявил он. – Самка все еще где-то тут.
Женевьева не могла понять человека, которого должна была убить. Его лучший друг тяжело ранен, а он думает только о погоне за единорогом.
– Он будет отмщен, – объяснил он, отвечая на ее невысказанный вопрос.
– Он не умер и не нуждается в отмщении.
Магнус лежал тихий и покорный.
– Бальфус, – распорядился Рудигер, – будь готов выйти через полчаса. Сегодня мы вернемся с рогом.
Бальфус отсалютовал и вышел готовить снаряжение.
Открылась дверь, в зал забрела Анулка, глаза пустые, корсаж зашнурован кое-как, волосы торчат крысиными хвостиками.
– Ты, – сказал Рудигер. – Присмотри за графом Магнусом.
Служанка явно не поняла. Ее губы и подбородок были синими от дурманящего сока.
– Вампирша, – продолжал Рудигер. – Ты пойдешь с нами.
В этот миг Женевьева решила, что, Тибальт или не Тибальт, а она убьет графа фон Унхеймлиха. Она знала, что на его руках кровь. Он, должно быть, убил свою подругу. И Сильвана де Кастрис была не первым «несчастным случаем на охоте» в окрестностях охотничьего домика Рудигера.
Обессилевший Магнус смотрел на портрет покойной жены графа.
– Серафина, – сказал он сам себе. Он был измучен, ранен и бредил.
– Анулка, – обратилась Женевьева к служанке, пронизывая своим вампирским взглядом пелену ее грез. – Возьми немного дурманящего корня. Я знаю, у тебя есть. Размели и завари чай. Давай его графу. Ты поняла?
Служанка испуганно кивнула. Сок дурманящего корня, изрядно разбавленный, мог помочь снять боль.
Она предоставила Анулке заниматься Магнусом и поднялась.
– Иди собирайся, – велел ей Рудигер. – Возможно, узнаешь кое-что новое про охоту при свете дня.
Женевьева поклонилась и ретировалась, рысью припустив по коридору в свою комнату.
Бальфус был уже одет в куртку и меховую безрукавку и доставал из-за алтаря Таала ножи и силки.
– Сделаем это сегодня, – сказала она ему. Он, не оборачиваясь, кивнул. – Ты отвлечешь Доремуса, а я прикончу графа. Тогда мы будем свободны от Тибальта.
Женевьева натянула брюки и жилет. Она взяла у Бальфуса одну из шляп с перьями и упрятала под нее волосы.
– Какой у него крючок на тебя, Бальфус? – спросила она. – Почему ты стал марионеткой Тибальта?
Проводник повернулся к ней. За последнее время он отрастил бороду, и теперь она закрывала его щеки до самых глаз. Его грудь и плечи возле шеи густо поросли красноватой шерстью.
– Я могу измениться, – сказал он. – Когда-нибудь.
– А, прикосновение варп-камня. Бедный верный пес. Ну, зато после этого ты сможешь найти другого хозяина и таскать любые палки, какие захочешь.
От этих слов Бальфусу, похоже, легче не стало.
Они вернулись в холл, где их нетерпеливо дожидался Рудигер.
Магнус, уже погрузившийся в грезы после чая Анулки, пытался сказать что-то, поговорить с Доремусом. Сын графа стоял подле «дяди» на коленях, пытаясь слушать, но Рудигер тянул его за собой.
– Для этого еще будет время, – сказал граф. – Надо идти по следу, пока он не остыл.
Женевьева пожала Магнусу руку и вслед за тремя мужчинами вышла из дому. Собаки устали, так что охотникам предстояло обойтись без них.
Вокруг дома, там, где были сведены деревья, сияло чудесное утро. Глазам Женевьевы на солнце приходилось нелегко, но в сумраке леса будет проще.
Граф уже размашисто шагал прочь. Он сказал Бальфусу, что они направляются к Ущелью Кхорна, чтобы там взять след самки.
Женевьева поколебалась, оглядываясь на дом, и пошла за остальными. Угнаться за ними ей труда не составит.
Они шли по недавно протоптанной тропке, по которой Рудигер и Доремус вели Магнуса. Женевьева оптущала на земле запах крови. При некоторых обстоятельствах нюх у нее становился острее, чем у собаки. Но она не собиралась предлагать им заменить собой Карла и Франца.
Рудигер угрюмо торжествовал. Он тихонько напевал себе под нос охотничьи песни Леса Теней.
Непостижимо, но сейчас Женевьеве не хотелось убивать его. Она намеревалась сломить его, унизить и напиться его крови. То, что он сказал вчера Доремусу, – правда: «Убивая, ты забираешь силу твоей жертвы». Женевьева хотела его силу.
Рудигер изменился с того момента, как убил эту женщину. Он хотел, чтобы Женевьева была рядом с ним, и теперь постоянно дергал ее, держа при себе.
Она заметила его интерес к своей персоне и собиралась обратить это против него. Когда Бальфус уведет Доремуса, она вонзит в него зубы и когти. Покончив с этим, она столкнет его в Ущелье Кхорна, и тело канет там навсегда.
Они дошли до ущелья. «Это и есть место убийства», – поняла она. Женевьева заметила, как Доремус вглядывался в глубину, надеясь, что там вдруг мелькнет Сильвана.
Рудигер был невозмутим, он опустился на колени, ища следы.
– Вот они, – хлопнув рукой по траве, объявил он. Женевьева осмотрела след, обратив внимание на расстояние между отпечатками.
– Она, должно быть, огромная.
– Да, – усмехнулся Рудигер. – Старая тварь, ладоней семнадцать-восемнадцать в холке, рог длиннее моей руки.
Она чувствовала запах его возбуждения.
Рудигер сжал ее тонкое запястье в своей крепкой ладони. Этой слабой ручкой она могла бы сломать ему хребет.
– Мне нужен ее рог, – заявил он.
Граф поднялся и двинулся по следу вглубь леса. Доремус с явной неохотой шел за ним. Женевьеве показалось, что они идут знакомым путем.
– Она не спешила. – Рудигер указал на ветку, общипанную намного выше человеческого роста. – Позавтракала здесь. Хладнокровная тварь, все время пытается одурачить нас. Она еще наделает дел.
Граф зашагал вперед по тропе, пробитой самкой.
Женевьева взглянула на Бальфуса, и проводник отвернулся. Она знала: на него рассчитывать нечего, но надеялась, что ей и не придется.
– Взгляните, – Рудигер указал в ложбинку, – замечаете силуэт?
На усыпанной листвой земле виднелся тонкий слой праха и мелкие остатки костей.
– Это твоя вчерашняя добыча, сын, – пояснил Рудигер. – Твой подранок, должно быть, отыскал ее и рассказал про нас. Это, разумеется, война. Мы должны убить самку, Доремус, пока она не убила нас. Именно это и значит быть мужчиной.
Даже бредни лунатиков и то бывают разумнее.
Рудигер прошел вперед, вернулся и позвал их, понуждая перейти на бег.
У нее было ощущение, что Доремус из последних сил терпит выходки отца. Его нетрудно будет отвлечь.
– Идем, идем, – торопил Рудигер. Женевьева поняла наконец, что смущает ее.
– Я помню эту тропу, – сказала она.
– Да, да, – согласился Рудигер. – Тропа к дому. Самка сдвоила след, чтобы напасть снова. Очень умно, но нас не проведешь.
Она ужаснулась.
– Но, граф…
– Старая охотничья уловка, моя дорогая. Оставить подранка для приманки. Магнус научил меня ей еще в детстве.
Рудигер рассмеялся, и Женевьева готова была броситься на него. Ее ногти удлинились, заостряясь, она полыхала гневом.
Но граф уже исчез, умчался вперед, отбросив в азарте погони всякую осторожность.
Бальфус встретился с ней взглядом и кивнул на раздваивающийся след. Он может увести Доремуса по ложному пути, а она покончит с графом.
Она покачала головой.
– Надо возвращаться домой, – объяснила она. – Граф Магнус в опасности.
– Дядя… – начал было Доремус. – Почему?
– Единорог знает его запах, его кровь, – объяснил Бальфус. – И захочет прикончить его.
– И мой отец…
– Знал? – докончила Женевьева. – Конечно знал. Пошли.
Выведя Доремуса из полудремы, она побежала вслед за Рудигером, за единорогом.
Лес поредел, и они были уже около замка.
Даже отсюда она услышала вопль. Мужской вопль, исполненный горя и ярости.
Опередив Доремуса и Бальфуса, она бежала, огибая деревья, с силой отталкиваясь от земли. Когда было нужно, она становилась быстрой, как леопард.
И все-таки недостаточно быстрой.
Дверь дома была открыта, перед ней, все еще крича от ярости, стоял Рудигер.
Женевьева протиснулась мимо него и увидела, что опоздала.
Анулка валялась у входа с зияющей раной под подбородком, подергиваясь, погруженная в свою последнюю грезу. Дальше, возле перевернутого разбитого стола, лежал граф Магнус Шеллеруп. Он был смят, как старое одеяло, сквозь глубокие дыры в груди виднелись ребра и внутренности. Должно быть, самка подбрасывала и ловила его рогом, будто ребенок, играющий в бильбоке.
Женевьева поскользнулась в крови и упала на колени.
Запах крови разливался в воздухе вокруг нее, и рот Женевьевы наполнился слюной. Кровь мертвецов была ей омерзительна, как протухшая еда. Она слишком много раз вынуждена была пить ее, но при этом в желудке у нее всегда все переворачивалось. Кровь Магнуса, растворенная в ее крови, взывала к ней.
Задохнувшись, Доремус упал рядом с ней.
– Дядя…
Слишком поздно.
За ее спиной Рудигер, широко шагая, уходил в лес, исполненный решимости отомстить.
Женевьева взяла подушку и подложила под окровавленную голову Магнуса, прикрыв его шрам. Она смотрела на неизувеченную половину его лица и на Доремуса. Потом она содрогнулась, мир вокруг перевернулся и, тошнотворно перекошенный, сложился в новую картину.
Она поняла. И знала, что должна сделать.
Оставив Магнуса и проскочив мимо Доремуса и Бальфуса, она кинулась следом за Рудигером в лес.
Ее клыки выскользнули из ножен.
10
Сердце Доремуса рыдало, но слезы не шли.
Дядя Магнус мертв, и ему уже ничем не помочь. Он смотрел на лицо старика, его шрам, с неожиданной нежностью прикрытый девушкой-вампиром. На протяжении всей его жизни Магнус был с ним, старина Непобедимый, добрый, когда его отец бывал холоден, понимающий, когда отец был безразличен, ободряющий там, где отец требовал. Непобедимый, в конце концов, оказался побежден. Но он умер быстро, от смертельных и почетных ран, не угасал от какой-нибудь болезни, истекая вонючей жидкостью из всех дыр, с затуманенным рассудком и усохшим телом.
«Это не такая уж плохая смерть», – сказал себе Доремус. Потом посмотрел на кровь, на рваные раны и понял, что хорошей смерти не бывает.
Бальфус ждал в сторонке. Теперь вокруг собрались все слуги, судачили, восклицали. Где они были, когда единорог убивал графа? Попрятались, спасая свои шкуры?
Доремус последовал за отцом и вампиршей. Бальфус трусил рядом.
«Что бы я ни думал об отце, об охоте, об убийствах, – поклялся Доремус, – я найду ту тварь, что убила моего дядю, и прикончу ее».
Он отыщет единорога раньше Рудигера, и на этот раз это будет чистый выстрел. Потом он сожжет свой лук.
Лес поглотил их.
11
Идущая по следу Женевьева охотилась на охотника.
И Тибальт тут был ни при чем.
Это ее охота.
Она представляла, как рог самки единорога ударяется в ребра Магнуса, вонзается ему в живот, выпуская наружу кишки.
И ей вспомнилось холодное бешенство графа Рудигера фон Унхеймлиха.
В этот миг не нашлось бы в лесу существа более опасного, чем вампирша.
Она всегда отделяла себя от Истинно Мертвых, тех вампиров, что убивали живых просто ради удовольствия. Она слушала, как они похваляются своими подвигами, и ощущала превосходство над этими выходцами из могил, с их гнилостным дыханием и красными глазами, со звериным оскалом на лицах, цепляющимися днем за свои гробы и подземелья, а по ночам скользящими по воле ветра в поисках нежных шей, наслаждаясь страхом, окутывающим их, будто саван.
Она вспоминала своих знакомых: царица Каттарина, кровавый тиран, правившая столетия, ликовавшая, когда по ее телу струилась кровь ее подданных; Вьетзак с Края Мира, с полным ртом зубов, похожих на гальку с острыми как бритва краями, жующий мясо крестьянского ребенка; даже ее темный отец, щеголь Шанданьяк, утирающий с губ кровь кружевным платочком, старый и одинокий, несмотря на очаровательные внешность и манеры.
Впервые за без малого семьсот лет Женевьева Дьедонне почувствовала справедливость красной жажды.
Она жалела, что пощадила остальных: Тибальта, Бальфуса, Анулку, Ото. Надо было выпотрошить их и пить свежую кровь прямо из их брюха. Надо было высосать из них целое море крови.
Рудигер бежал быстро и опережал ее.
Она сшибала ногами попадавшиеся на пути молодые деревца, наслаждаясь треском ломающихся стволов. Птицы разлетались из своих падающих гнезд, мелкая живность кидалась врассыпную, прочь с ее дороги.
– Стоять! – приказал голос, пробившийся сквозь ее кровавую ярость и поразивший ее в самое сердце.
Она замерла посреди небольшой полянки. Граф Рудигер стоял едва ли в дюжине шагов от нее с поднятым луком и стрелой наготове.
– Деревянное древко, серебряный наконечник, – объяснил он. – Будет в твоем сердце в один миг.
Женевьева расслабилась, протянув руки и показав пустые ладони.
– Другому я приказал бы бросить оружие. Но вряд ли могу ожидать, чтобы ты вырвала свои зубы и ногти.
Красная ярость полыхала в ней, и лицо Рудигера виделось подернутым кровавой пеленой. Она изо всех сил пыталась взять себя в руки, смирить жажду убийства.
– Вот это правильно, – сказал Рудигер. – Держи свой норов в узде.
Он повел стрелой, и Женевьева, повинуясь его жесту, опустилась на землю. Она села на скрещенные ноги, подложив руки под зад.
– Так-то лучше.
Зубы ее съежились и скользнули обратно в десны.
– Скажи, вампир, сколько этот серый счетовод посулил за мою голову? С какой толикой своих драгоценных монет был готов расстаться, чтобы расчистить себе путь?
Женевьева молчала.
– О да, мне все известно о том, зачем ты здесь. У Бальфуса собачья душа и преданность тоже. Я все знал с самого начала. Тибальту не понять, что для человека что-то может быть важнее денег.
Когда Рудигер торжествующе умолк, он напомнил Женевьеве Морнана Тибальта, у того так же блестели глаза, когда исполнялись его планы.
– Я бы убил его, если бы от этого был какой-нибудь прок. Но раз Бальфус даст свидетельские показания, в этом нет смысла. Наглый сын клерка вернется туда, откуда пришел, будет корпеть в какой-нибудь крохотной конторке, сражаясь за каждый кусок хлеба, за каждый затертый пфенниг.
Сумеет ли она достать его прежде, чем он убьет ее?
– Ты не из таких, вампир. Тибальт, должно быть, поймал тебя на каком-нибудь преступлении, чтобы сделать своим орудием.
Позади графа Рудигера, в лесу, двигалось что-то большое. Женевьева ощущала его, чувствовала его волнение.
– Может, заключим мир?
Рудигер расслабился, его стрела опустилась. Женевьева кивнула, выигрывая время.
– Смотри, – сказал Рудигер, держа лук в одной руке и стрелу в другой. – Я не причиню тебе вреда.
Он подошел, но так, чтобы она не могла до него дотянуться.
– Ты прелесть, Женевьева, – говорил он. – Ты напоминаешь мне…
Он протянул руку, и его пальцы коснулись ее щеки. Она могла схватить его за руку, возможно, оторвать ее…
– Нет, ты другая. – Он убрал руку. – Ты охотница, как самка единорога. Тебе будет хорошо со мной. После охоты существуют и другие удовольствия и награды…
Она ощущала, как его вожделение клубится вокруг нее. Хорошо. Возможно, это ослепит его.
– Странно думать, что ты настолько стара. Ты выглядишь такой юной, такой свежей…
Он поднял ее и поцеловал, грубо прижимаясь языком к ее губам. Она чувствовала кровь в его слюне, и та обжигала ей рот, как перец. Она не сопротивлялась, но и не ответила ему.
Он отпустил ее.
– Потом мы разожжем твой пыл. Я неплохо владею не только луком.
Рудигер выпрямился.
– Сначала надо добыть рог. Пошли…
Он шагнул в чащу, и она поднялась, готовая последовать за ним. Она не представляла, что еще может случиться.
Она чувствовала запах единорога. И граф, очевидно, тоже.
12
Они снова очутились у Ущелья Кхорна. С другой его стороны, там, откуда упала Сильвана.
Для Доремуса это отныне место, где бродит ее дух.
При свете дня здесь все казалось другим, чем ночью. Искрился водопад, в воде играла радуга всех мыслимых цветов и оттенков. Бальфус стоял на четвереньках, обнюхивая землю. Его спина сделалась длиннее, натянув куртку, уши заострились и сдвинулись на затылок.
Это казалось вполне естественным. Даже Доремус чувствовал зов леса.
Он все еще видел странные вещи. И слышал их.
Деревья перешептывались, и падающая вода шипела и журчала, говоря с ним, напевая ему странные мелодии.
Это завораживало.
Ему хотелось сесть и вслушаться. Если у него хватит терпения, то, он был уверен, сумеет понять, что ему говорят.
В нем кровь единорога.
Бальфус уселся, отфыркиваясь и распустив слюни. Потом он прыжками понесся к лесу. Доремусу надо было бы последовать за ним, но по его телу расползалась странная усталость. Журчание воды держало его.
Бальфус стремглав уносился прочь.
Доремус пошел за проводником, положившись на его нюх. Бальфус взлаивал, словно гончая.
Пожалуй, сегодня ночью он запросится на псарню к Карлу и Францу, а вампирша останется в его постели в одиночестве.
Он отыскал Бальфуса замершим в стойке на краю поляны. Доремус прижался спиной к стволу и затаил дыхание.
Между деревьев что-то двигалось, блестела серебристо-белая шкура.
Доремус приготовил стрелу.
Он пнул Бальфуса, заставляя его бежать вправо, надеясь, что он привлечет внимание самки. Если она нападет на проводника, Доремус сумеет поточнее прицелиться. Стрелять следует в шею, в глаз или в холку. Потом в ход может пойти нож, чтобы докончить дело, если его нужно будет доканчивать.
Он предпочел бы убить ее с одного выстрела. Его отец гордился бы им.
Самка остановилась и вскинула голову, прислушиваясь. Доремус постиг истинное родство охотника и добычи и понял ее мысли.
Она подозревала ловушку, но взвешивала свои шансы. Достаточно ли она уверена в своих силах, чтобы атаковать в любом случае?
Бальфус залаял, и самка ринулась на него.
Единорог галопом вылетел из лесу и помчался по поляне, днем он выглядел больше, чем показалось Доремусу ночью. Доремус вышел из-за дерева и сделал несколько шагов, поднимая стрелу…
Земля под копытами единорога задрожала. Нарастающий грохот перешел в пронзительный, утробный стон земли.
Почва уходила из-под ног.
Доремус выстрелил, но его стрела ушла вверх, скользнула между глаз единорога и уже на излете лязгнула о рог.
Земля наклонилась, будто неустойчивый камень, и Доремус начал соскальзывать вниз. Единорог тоже лишился опоры и тихо заржал, ругаясь на своем лесном языке.
Доремус выронил лук и принялся карабкаться по ходящей ходуном земле, пытаясь выбраться из провала.
Самка, более тяжелая, чем он, и с копытами вместо пальцев, лишь билась и погружалась все глубже.
Обернувшись, Доремус увидел дергающуюся голову единорога, вздрагивающий рог, и потом все исчезло, провалившись в заброшенный гномами туннель.
Он упустил ее.
13
Они прибежали на шум и отыскали то место, где обрушилась земля. Доремус сидел на корточках возле провала.
– Самка там, – указал он.
Рудигер не нуждался в пояснениях. Он полез в дыру, призывая за собой остальных.
– Я могу видеть в темноте, – сказала Женевьева. – Вы – нет.
Бальфус, уже наполовину изменившийся, неуклюже вытащил из кармана трутницу и свечу и теперь пытался совладать с ними. Его похожие на лапы руки не могли управиться с кремнем. Доремус забрал у него свечу и высек огонь.
Они осторожно спустились в провал. Он был раза в два глубже человеческого роста и вел в туннель.
– Это, наверно, магистральный ход, – сказала Женевьева. – Достаточно высокий и для нас, и для самки.
От него ответвлялись куда меньшие боковые ходы, затянутые паутиной, куда не пролез бы ни человек, ни единорог.
– Легкий след, – сказал Рудигер. – Просто пойдем туда, где порвана паутина.
Из своего убежища выскочил паук размером с домашнего кота, и Бальфус заскулил.
Рудигер поддел тварь носком сапога, и та взвизгнула, врезавшись в стену.
Снова граф шагал впереди, а они – за ним. Все это шло и шло по кругу – охота за охотником, охотящимся за охотником, на которого охотятся. Женевьеве хотелось, чтобы это, наконец, закончилось.
Под ногами захлюпало, туннель зарывался глубже в землю. Оставалось надеяться, что древние инженеры строили надежно. Чем ближе к поверхности, тем сильнее разрушались вещи.
Эти штольни были заброшены со времен Сигмара. Столетиями сюда не ступала нога разумного существа.
– Впереди свет, – сообщила Женевьева, разглядев его своим зрением.
– Этого не может быть, – фыркнул Рудигер.
Доремус заслонил свечу ладонью, и свет увидели все.
– Видимо, может, – признал граф. – Мои извинения. Самка шла на свет.
Здесь, внизу, было сыро и холодно. Вода сочилась по стенам и хлюпала под ногами.
Путь им преградила сверкающая завеса, в ушах загремел оглушительный рев воды.
– Мы с обратной стороны водопада! – прокричал Доремус.
Так оно и было. Женевьева шагнула вперед и погрузила руку в студеную завесу, ловя лицом брызги.
– Самка, должно быть, проскочила сквозь это, – заметил Рудигер.
Это было великолепное зрелище.
– Пошли, – проворчал граф, зажал рукой нос и бросился в воду.
Какое-то мгновение он был еще виден, похожий на вмерзшего в лед жука. Затем поток унес его. Доремус был потрясен.
– Там должен быть выход в ущелье, – сказала Женевьева. – Он, наверно, выберется вслед за единорогом.
Бальфус прыгнул следом за хозяином.
– А ты из тех, кто не любит текущей воды? – спросил Доремус.
– Да вроде не замечала за собой.
Тем не менее, ни один из них и шага не сделал к завесе.
– Ты можешь слышать голос воды?
Женевьева прислушалась, и ей показалось, что она улавливает какие-то слабые, молящие ноты в реве водопада.
– Я сегодня весь день это слышу.
– Они должны доноситься откуда-то поблизости.
Женевьева огляделась. Для человека здесь было темно, как ночью. Для нее – светло, почти как днем.
– Погаси свечу, я буду лучше видеть, – велела она. Доремус послушался.
За водопадом каменный пол становился более ровным. Резьба на стенах изображала Сигмара, побивающего молотом гоблинов. С точки зрения искусства – посредственно, но свидетельствует об определенном энтузиазме гномов.
Вода бормотала, пела, плакала…
Они отыскали ее в нише, укрытую одеялами мха, с лицом бледным и тонким, почти как у эльфа.
– Сильвана?
Женщина не откликнулась на свое имя.
– Она, наверно, мертва, – сказал Доремус. – Я видел, что отец выпустил две стрелы.
Женевьева опустилась возле женщины на колени и увидела, как та изменилась. Стрелы все еще торчали в ее теле, но они дали побеги, пошли в рост. Из дерева появились зеленые ростки, оперение покрылось цветами. Ее лицо изменилось тоже, стало зеленоватым, как молодая кора, волосы видом и цветом сделались похожи на мох, тонкие руки обхватывали мягкое, рыхлое тело. Она пустила корни там, где лежала. Превратилась в частицу этой бухты. В этом месте ей хватало воды и света.
Женевьева слышала, что эта вода особенная. Пока она глядела на Сильвану, вокруг лица женщины начали распускаться цветы.
– Доремус, – прошептала Сильвана, и голос исходил не из запекшихся губ, а из дышащих ноздрей. – Доремус…
Юноше не хотелось подходить к измененной женщине. Но ей нужно было что-то сказать ему.
Ее голова поднялась, шея начала вытягиваться, будто растущая ветка.
– Рудигер убил твою мать, – произнесла она.
Доремус кивнул, поняв, что сказала ему Сильвана.
Это явно уже приходило ему в голову.
– И твоего отца тоже, – добавила Женевьева.
Доремус широко раскрыл глаза, не понимая.
14
– Ловко, ловко, – произнес голос позади них.
Перед водопадом стоял Рудигер. С него капала вода, в руке сверкал нож.
– Доремус, – сказал он, – подойди сюда. Я пришел за своей добычей.
Доремус застыл, не зная, что делать.
– Серафина? – спросил он. – Мама?
– Шлюха, как все женщины, – пожал плечами Рудигер. – Тебе повезло, что, когда ты рос, она не портила тебя своей опекой и суетой.
Женевьева медленно распрямилась. В темноте казалось, что ее глаза сверкают красным огнем.
– Я ждал вас снаружи, но пришел лишь верный пес.
То, что было Сильваной, съежилось, голова вжалась в зеленое ложе.
– Вот я и вернулся. – Он помахал ножом.
– Какое убожество, граф, – заметила Женевьева. – Где же ваше другое оружие?
Рудигер рассмеялся, так же как в разгар погони. Он похлопал по колчану.
– Здесь, вместе со стрелами.
– Отец, – заговорил Доремус, – что все это значит?
– Ты больше не должен называть меня так.
– Это был Магнус, – объяснила Женевьева. – Я прочла это по его лицу. У тебя его лицо.
Внезапно Доремус понял свое «дядя», понял заботу, которой всегда окружал его Магнус, понял взгляды, которые тот бросал на портрет Серафины.
– Он был хорошим другом, и его стоило винить в измене не больше, чем этого толстого идиота сегодня ночью, – сказал Рудигер. – Я просто женился на шлюхе, вот и все.
Женевьева подбиралась все ближе к Рудигеру, дюйм за дюймом, всякий раз, как граф переключал внимание на Доремуса. Тот не знал, кому помогать.
– Вампир, – бросил Рудигер. – Стой, где стоишь.
Женевьева замерла.
– Как ты узнала, что я сделал с Магнусом? – спросил он.
– Граф был убит рогом. Единорог пустил бы в ход и копыта тоже.
Рудигер улыбнулся:
– А, это наблюдательность охотника.
Он достал из колчана трофей своего деда.
– Такая красивая, такая умная, такая опасная, – произнес он, глядя на Женевьеву.
Рог был еще красным от крови Магнуса.
– Я не мог позволить ему отобрать у меня наследника, – объяснил Рудигер. – Род фон Унхеймлихов должен продолжаться, даже если кровная линия пресеклась. Честь важнее крови.
Доремус понял, что Магнус пытался объявить себя его отцом. Когда граф был ранен, он хотел, чтобы Доремус узнал об этом, хотел, чтобы тот помнил.
– Это грызло его изнутри, – продолжал Рудигер. – Он мог бы обьявить об этом публично, мог бы забрать тебя к себе, сделать своим наследником. Теперь этой опасности нет. Род уцелел.
Доремус отвернулся от графа и разрыдался, оплакивая отца.
15
Женевьева кинулась на Рудигера и столкнулась с ним, обхватив его руками, оттолкнув смертоносный рог.
Вместе они рухнули в водяную завесу.
Она крепко цеплялась за него, пока они погружались в глубины озера на дне Ущелья Кхорна. Здесь, под водой, было тихо, все звуки доносились приглушенно.
Она могла оставаться под водой дольше, чем граф.
Она могла утопить его. Но он сопротивлялся, боролся с ней.
Под водой он был сильнее. Она почувствовала, как кончик рога царапнул ее по бедру, и серебро жгло кожу, словно в рану вгрызался хищный червь.
Они выскочили на поверхность, и там было невыносимо шумно. Кричал Рудигер, ревела вокруг вода.
Кругом была ее кровь.
Рудигер нырнул, и она увидела, как мелькнули в воздухе его сапоги. Она замолотила по воде руками.
Рудигер поднялся из воды, держа рог обеими руками, точно тяжелый меч, нацеленный в нее.
Она ударила по воде ногами и извернулась, и рог вонзился в воду.
Сжав кулак, она ударила Рудигера в бок, почувствовав, но не услышав, как ломаются его кости. Он взметнулся, словно раненая рыба, и снова нанес удар, зацепив ее спину. Волна боли обожгла ее, и она отшатнулась. Рог снова метнулся к ней, и она шарахнулась в сторону.
Позади нее обнаружился подводный камень, и поток воды прижал ее к нему.
Рудигер подошел, медленно, считая, что она пригвождена к валуну, готовясь вонзить рог ей в сердце.
– Умри, вампирская сука, – прорычал он.
Рог устремился вниз, и она нырнула.
Рудигер ударил рогом по камню, а она выбросила руку, вцепившись ему в горло, чувствуя под пальцами его жесткую мокрую бороду.
Рог сломался, и она всей тяжестью бросилась на графа.
Она врезалась в него, и он выронил обломок рога, его руки вцепились ей в волосы.
Она потеряла шапку, и волосы ее рассыпались.
Рудигер рвал ее волосы, но Женевьева не обращала внимания на боль. Он оказался под ней, и она поплыла к устью потока, продолжая удерживать графа под водой. Он хлебнул ледяной воды и задохнулся, пуская пузыри.
Теперь у нее под ногами была твердая скала, и она втащила на нее графа. На краю Ущелья Кхорна вода сливалась в реку, и здесь была твердая земля, на которой она могла драться.
Десны ее горели от боли, в ней опять проснулась кровавая ярость.
Она слышала, как бьется сердце графа, чувствовала, как пульсирует кровь у него в горле. Ее ногти ободрали ему кожу, и царапины кровоточили.
Падающая вода выбила в скале подобие желоба, и по краю его почти до поверхности шел гребень.
Женевьева с силой ударила Рудигера об этот гребень, ломая ему хребет.
Она поднялась и уставилась на свою добычу. С одежды ее стекала вода.
Он еще бился, но больше не мог причинить ей никакого зла.
Лук и колчан графа были смыты, унесены потоком. Его нож покоился на дне озера. Дедов трофей сломался. Он проиграл этот бой.
Позади них из-за водяной завесы появился Доремус.
Ее горло, ее сердце, желудок и чресла требовали своего.
Она бросилась на графа, как зверь, прижалась ртом к его шее, вгрызаясь в кожу, впиваясь острыми зубами в вены.
Кровь, ледяная, охладившаяся в воде, текущей вокруг, хлынула ей в рот, и она жадно глотала ее.
Это была не любовь, это была добыча.
Она пила долго, досуха высасывая раны, отворяя новые и осушая их тоже. Она сдирала с графа одежду и рвала его тело. Она чувствовала, как он исчезает в ней, вбирала в себя его страсти, и они гасли, стремилась поглотить его целиком и растворить без остатка.
Она слышала, как сердце его билось все тише и остановилось вовсе, ощутила, как спались его залитые водой легкие, как замедлился ток его крови…
И сразу же ее рот наполнился мертвой кровью, вкусом тлена. Она выплюнула ее и поднялась.
Графа Рудигера фон Унхеймлиха не смогли бы исцелить даже воды Ущелья Кхорна.
На берегу потока стояла самка единорога, не отводя взгляда янтарных глаз от своего преследователя.
Женевьева прочистила горло от последних остатков крови Рудигера и зашагала через поток, расталкивая волны. Самка ждала ее.
Выбравшись на берег, она подошла к единорогу.
Обе знали, что охота окончена.
Женевьева обняла самку за шею и прижалась лицом к ее морде, зарылась щекой в мех.
Она почувствовала, что самка стара, как она сама, и что это были ее последние самцы и ее последняя охота…
Глядя в ее глаза, Женевьева поняла, что сейчас все должно быть окончено. Внезапным рывком она свернула единорогу шею, слыша, как ломаются позвонки с хрустом, похожим на ружейный выстрел.
Старая самка опустилась на колени и упокоилась с миром.
И осталась еще последняя награда.
Она взялась за рог, чувствуя неприятное жжение его серебряных прожилок, и выдернула его изо лба самки. Он отделился легко, словно спелый плод от ветки.
Кровавая ярость улетучилась из нее, будто облако.
16
– Вот, магистр Доремус, – сказала Женевьева, протягивая ему рог. – Подарок. Взамен утраченного трофея.
Он дрожал, одежда отяжелела от воды.
Бальфус, уже совершенно собака, припал к земле возле мертвого единорога. Он скалился и терзал брюхо самки.
Женевьева пинком отбросила его прочь, и он, затявкав, скрылся в лесу. Теперь он был частью природы, как Сильвана. Драквальд всегда славился умением брать свое.
Вампирша стояла между своими жертвами, между самкой единорога и графом фон Унхеймлихом.
– Вот для чего нужны охотники, – сказала она, – убивать тех, кого нужно убить, тех, кто пережил свое время, пережил свою славу.
Рог в руках Доремуса был гладким и красивым.
– Отправляйся домой, Доремус, – продолжала Женевьева, – и похорони своего отца. Похорони его с почестями. Если хочешь, возьми его имя. Или графа Магнуса. В любом случае используй свое положение, чтобы сокрушить Морнана Тибальта…
Он был совсем сбит с толку всем этим.
– А что до него, – она кивнула на графа, лежавшего в воде лицом кверху, с разинутым ртом, – забудь, что он убил графа Магнуса. Помни, что он знал то, что знал, но позволил ему жить все эти годы. Это что-нибудь да значит.
Девушка-вампир была теперь совсем другой. Сильной, уверенной, властной. Он больше не испытывал к ней отвращения. Она была стара, но выглядела еще более юной, чем прежде.
– А ты? – спросил он.
Она на миг задумалась.
– Я ненадолго останусь тут и уйду в леса. Я ведь тоже дикое существо.
Женевьева потянулась к нему и поцеловала, прижавшись холодными губами к его губам. Доремус почувствовал, как по телу пробежала дрожь.
– Будь мужчиной, таким, каким хотел бы тебя видеть твой отец, – сказала она.
Он оставил ее и зашагал вдоль ручья.
Когда она уже не могла его видеть, он в последний раз взглянул на рог и бросил его в воду. Пуская пузырьки, тот опустился на дно, струи воды обтекали его. Это место больше подходит для него, чем пыльная стена.
Подходя к охотничьему домику, Доремус понял, как верна пословица: «Вернулся домой, а дом-то пустой».