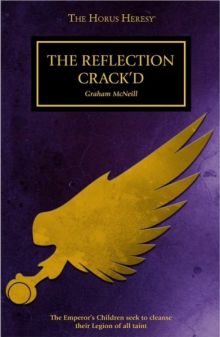И раскололось отраженье / The Reflection Crack'd (новелла)
Гильдия Переводчиков Warhammer И раскололось отраженье / The Reflection Crack'd (новелла) | |
|---|---|
| Автор | Грэм Макнилл / Graham McNeill |
| Переводчик | Hades Wench, Kashiwagi |
| Издательство | Black Library |
| Серия книг | Ересь Гора / Horus Heresy (серия) |
| Год издания | 2012 |
| Подписаться на обновления | Telegram-канал |
| Обсудить | Telegram-чат |
| Скачать | EPUB, FB2, MOBI |
| Поддержать проект
| |
Действующие лица
III легион, Дети Императора
Фулгрим, примарх
Люций, капитан
Эйдолон, лорд-коммандер
Юлий Кесорон, первый капитан
Марий Вайросеан, капитан какофонов
Крисандр, капитан, 9-я рота
Калимос, капитан,17-я рота
Руэн, капитан, 21-я рота
Даймон, капитан
Абранкс, капитан
Гелитон, капитан
Фабий, старший апотекарий
1
Он всегда спал без сновидений, но то, что он видел сейчас, явно было сном. Другого объяснения быть не могло. В «Ла Фениче» больше никого не пускали, и Люций прекрасно понимал, что приказ примарха нарушать не следует. Раньше, до дня их пробуждения, такое неподчинение граничило с безрассудством, теперь же оно означало бы смертный приговор.
Да, наверняка он спит и видит сон. По крайней мере, он на это надеялся.
Люций был один, а одиночество ему не нравилось. Такие, как он, не могут жить, не вызывая в других восхищение, а в этом месте восхищаться им было некому. Здесь были только мертвые – сотни трупов, которые лежали повсюду словно выпотрошенные рыбы. Смерть искорежила тела, лица навсегда исказились в ужасе от пыток и осквернения, которые предшествовали гибели.
Эти люди умерли в мучениях, но все равно с радостью приняли каждый удар клинка, каждое прикосновение когтей, которые вырывали глаза и языки. Зал превратился в анатомический театр, но в прогулке по нему была своя прелесть. Несмотря на трупы, чувствовалось, что «Ла Фениче» совершенно опустел. Темное заброшенное помещение, безмолвный спящий склеп. Когда-то по арочному просцениуму шествовала сама жизнь во всем своем блеске, удивляя зрителей великолепием красок, прославляя героев и высмеивая глупцов. Теперь же театр стал залитым кровью отражением тех навсегда ушедших времен.
Чудесная фреска Серены д’Ангелюс, оживившая потолок экстравагантными оргиями древности, почти полностью скрылась под слоем сажи и копоти. В зале был пожар, и до сих пор в воздухе чувствовался слабый запах прогорклого жира и горелых волос. Люций едва его заметил – запах практически развеялся и уже не возбуждал в нем интереса.
Но зато он ощущал, что безоружен, – и очень остро: мечнику, оставшемуся без меча, казалось, что утеряна важная часть тела. Не было на нем и доспеха – его блистательного доспеха, перекрашенного из старых блеклых тонов в яркие цвета, ласкающие глаз. Банальные знаки отличия сменились на роскошные украшения, и броня теперь более соответствовала его статусу и мастерству.
Без всего этого Люций чувствовал себя практически голым. Ему вообще не следовало быть здесь, и он оглянулся в поисках выхода.
Двери закрыты и заперты снаружи. Их не открывал с тех пор, как примарх, вскоре после расправы над Феррусом Манусом и его союзниками, в последний раз посетил «Ла Фениче». Тогда Фулгрим приказал закрыть двери в зал навсегда, и никто из Детей Императора не посмел ему перечить.
Так почему он, Люций, рискнул прийти сюда, хоть и во сне?
Ответа он не знал, но было ощущение, что он последовал сюда, подчиняясь чьему-то зову, неслышимому голосу, который упорно к нему взывал, неделя за неделей, но лишь сейчас обрел достаточную силу, чтобы добиться желаемого.
Но если его привел сюда чей-то голос, то кто же его обладатель?
Люций пошел к сцене, надеясь найти выход, но в то же время с интересом изучая изменения, произошедшие в «Ла Фениче». У края оркестровой ямы загорелась пара рамповых софитов, и в их неверном свете блеснуло зеркало в золотой раме, которое стояло в середине сцены. Раньше Люций этого зеркала не замечал и теперь направил свой сновидческий путь к нему.
Он обошел стороной оркестровую яму, музыканты в которой стали игрушками для созданий из обезображенной плоти и темного света. Они натянули кожу жертв на пюпитры, а головы и конечности разложили на немногих уцелевших инструментах, словно это был какой-то невероятный оркестр проклятых.
Люций одним отточенным и плавным движением запрыгнул на сцену. Даже его телосложение указывало, что он мечник, а не мясник: широкие плечи, узкие бедра и длинные руки. Зеркало манило его, словно от серебряной поверхности к самому его сердцу протянулась невидимая нить.
Ему вспомнились слова Фулгрима: «Я люблю зеркала – за их поверхностью лежит суть вещей» [1]. Однако Люций ни через какие поверхности проникать не собирался. Предательский удар, нанесенный Локеном, отрезал ему путь к совершенству, и Люций довел начатое им до конца с помощью лезвия и крика, отголоски которого он все еще мог услышать, если бы захотел.
А может быть, кричал вовсе не он? Сейчас он уже точно не знал.
Люций не хотел смотреть в эту серебристую гладь, но ноги сами несли его все ближе. Что он увидит в зеркале сна – себя или что-то ужасное… например, правду?
В зеркале он увидел всего лишь пятнышко света, источник которого оставался невидим. Это показалось ему странным, но затем он вспомнил, что это ему снится, а сны не подчиняются незыблемой логике материального мира. Отражение показало ему вовсе не то лицо, которое он так старался забыть: из зеркала на него смотрел воин с четкими и прямыми чертами и высокими скулами, которые подчеркивали золотисто-зеленый цвет его глаз. У него были блестящие черные волосы и полные губы, изогнувшиеся в улыбке, которая у менее умелого воина могла бы показаться самонадеянной. Люций прикоснулся к отражению – и ощутил гладкость кожи, безупречностью своей напоминавшую отполированную сталь клинка.
– Когда-то я был красивым.
Его отражение рассмеялось в ответ на такое проявление тщеславия.
Люций занес кулак, собираясь разбить эту издевательскую карикатуру, но его зеркальный двойник движения не повторил: вместо этого он обернулся, глядя на что-то за своим правым плечом. Там, в глубине, виднелось отражение разрушенного просцениума и фронтона над ним, на котором висел тот самый невероятный портрет Фулгрима.
Память Люция подсказывала, что портрет, как и его собственное лицо, раньше выглядел иначе. Раньше это изображение было полно силы и экспрессии, оно бросало вызов чувствам экзотическим сочетанием ярких цветов и текстур; теперь же это был просто обычный портрет. Цвета блеклые, линии примитивные, сам образ – банальный. Такую поделку мог бы намалевать красками и акварелью обычный бродячий художник.
Но в этом тривиальном изображении Люций заметил одну деталь – глаза, выписанные с невероятным мастерством. Боль и страдание, запечатленные в них, были столь глубоки, что казались невыносимыми. После пугающих изменений, привнесенных в его тело апотекарием Фабием, Люций не мог ни на чем сосредоточиться дольше, чем на мгновение. Однако глаза этого портрета приковали к себе его внимание, и он услышал жалобный крик, донесшийся из невообразимых глубин времени и пространства. Немая мольба в этом безумном взоре говорила о вечности, проведенной в заключении, и о жажде свободы, которую дает забвение. Этот взгляд пробудил в Люции нечто новое, нечто первобытное и по природе своей родственное отражению в зеркале.
Словно почувствовав это родство, зеркало покрылось рябью, как вода в озере. Эти волны зарождались на немыслимой глубине, и Люций, не горевший желанием встречаться с тем, что еще могло оттуда всплыть, потянулся к мечам. Он не удивился, ни когда обнаружил их на поясе, ни когда почувствовал, что облачен в боевой доспех.
В то же мгновение он обнажил клинки и в перекрестном ударе обрушил их на зеркало. Оно разлетелось на тысячи острых осколков, и Люций закричал, когда они впились в его безупречное лицо, рассекая мясо и кости, превращая его в освежеванную маску.
Но даже сквозь собственный крик он услышал еще чей-то вопль, преисполненный гораздо большего отчаяния.
Тот, кто кричал, знал, что обречен на бесконечную пытку.
Люций проснулся мгновенно: его генетически усовершенствованному телу потребовалась секунда, чтобы перейти от сна к бодрствованию. Он потянулся к мечам, которые всегда держал рядом с койкой, и еще через миг уже был на ногах. Его покои заливал сильный свет, который в последнее время не выключался никогда; Люций взмахнул клинками по дуге вокруг себя, стараясь выявить любые признаки надвигавшейся опасности.
Его окружали кричаще яркие картины, симфонические дискордии и кровавые трофеи, добытые на черных песках Исствана-V. Скульптура с бычьей головой, которую он забрал из Галереи мечей, стояла рядом с берцовой костью ксеноса, которого он убил на планете 28-2. Длинный и острый клинок эльдарского мечекрикуна соседствовал с режущей конечностью насекомоподобной твари, которую Люций прикончил на Убийце.
Все было в порядке, и он немного расслабился. Не заметив ничего странного, он взмахнул клинками в безотчетном хвастовстве мастера, после чего вернул мечи в черно-золотые ножны, висевшие на краю койки. Дыхание его участилось, мышцы горели, сердце колотилось, словно он только что вышел из тренировочной клетки, где сражался с самим примархом.
Ощущения были на удивление приятными, но продлились всего лишь миг.
На их место пришла боль разочарования, которая появлялась всегда, стоило его мимолетному интересу угаснуть. Люций прикоснулся к лицу, и загрубевшие шрамы, пересекавшие некогда прекрасные черты, наполнили его смесью отвращения и облегчения.
Свою красоту он уничтожил сам – ножами, осколками стекла, тупыми обрезками металла, – но первым изъяном, первым шрамом, который прорвал плотину, он был обязан Локену. Тогда Люций поклялся на серебряном мече примарха, что однажды лицо Лунного Волка станет таким же, но Локена больше не было – он превратился в пепел, который развеяли ветра скорби на мертвом мире.
Серебряный меч теперь принадлежал ему: благодаря этому подарку от примарха Фулгрима положение Люция в легионе укрепилось настолько, что он мог соперничать с Юлием Кесороном и Марием Вайросеаном. Первый капитан предложил ему перебраться в новые покои, поближе к тем, кто определял судьбу легиона, но Люций предпочел остаться в комнатах, которые занимал уже долгое время. По правде говоря, он презирал Кесорона и, отвергнув его предложение, почувствовал упоительную дрожь, когда изуродованные, смазанные черты лица первого капитана исказились от злости. Для мечника ярость Кесорона была словно лакомое блюдо, и воспоминание о том дне отозвалось в его сознании рябью удовольствия.
У Люция не было желания становиться частью командной иерархии, по крайней мере в ее сегодняшнем виде: он лишь хотел оттачивать свое мастерство, уже и так феноменальное, до абсолютного совершенства. Некоторые легионеры оставили стремление к совершенству, считая его частью прошлого, когда они были слугами Империума, – зачем им теперь доказывать Императору свою безупречность?
Но Люций считал иначе.
Немногие понимали истинную сущность тех отвратительно соблазнительных созданий, которых породила и вскормила ужасная, дисгармоничная «Маравилья»; Люций подозревал, что эти существа были проявлением изначальных сил – сил более древних и более щедрых на милости, чем кто-либо в Империуме.
Своим совершенством он заслужит их милость.
Сидя на краю койки, Люций пытался вспомнить подробности сновидения. Он до сих пор видел разрушенный интерьер «Ла Фениче» и ужасный взгляд портрета над сценой. За исключением глаз портрет в точности отражал образ Фулгрима в те дни, когда легион еще не начал свое воспитание чувств. В глазах же, наполненных болью, мерещилось что-то знакомое – что-то, что было утрачено после Исствана-V.
Та битва изменила Фулгрима, но перемена прошла незамеченной для всех, кроме Люция. Он чувствовал в своем возлюбленном примархе нечто неуловимо иное – смутное, но вполне реальное. Эта неправильность была похожа на расстроенную струну в арфе или на расфокусированный пикт.
Если кто-то еще и думал так же, то они предпочитали помалкивать на этот счет, ибо примарх не любил лишних вопросов и в гневе был жесток. Фулгрим, вернувшийся с залитых кровью песков мертвой планеты, не обладал ни мудростью, ни прозорливостью, ранее присущими Фениксийцу, а когда он рассказывал о прошлых битвах, то казалось, будто он пересказывает чужую историю, подслушанную, но не пережитую.
Люция не покидало ощущение, что некая сила призвала его в «Ла Фениче» по какой-то определенной причине; он перевел взгляд на портрет, висевший на противоположной стене. Прежде чем заснуть, что случалось с ним нечасто, он бросал последний взгляд на это изображение, и его же видел первым, когда просыпался. Источник муки – и одновременно источник вдохновения.
Его собственное лицо.
Портрет нарисовала Серена д’Ангелюс, и для этого особого заказа ей пришлось заглянуть в себя глубже, чем позволительно любому смертному. Такое совершенство было позволено лишь Детям Императора, и то, что поднимало их к новым высотам, стало причиной ее гибели.
В собственном лице, заключенном в золотую раму, Люций прочитал одну мысль – ту самую, что вторгалась в его сны, что тревожила днем, словно зуд, который невозможно унять.
Мысль невозможная, но все равно неотвязная.
То, что скрывалось в обличье Фулгрима, Фулгримом не было.
После Исствана-V путь к Гелиополису изменился. Огромный проспект, обрамленный высокими колоннами из оникса и пролегавший вдоль хребта корабля, раньше был величественным и торжественным местом, но теперь превратился в шумный бедлам. В тени колонн, там, где прежде стояли позолоченные воины с длинными копьями, разбили лагерь молящиеся и попрошайки, которые жаждали хотя бы мельком увидеть великолепие примарха. В прошлые времена такое сборище отбросов просто бы разогнали; но сейчас их никто не трогал, и хнычущий сброд, своим благоговением подпитывавший самомнение Фулгрима, заполонил все коридоры корабля. Люций презирал их, но иногда, в те моменты, когда был честен сам с собой, признавал, что это только потому, что они восхищенно выкрикивают не его имя.
Врат Феникса больше не было – их снесли в том помешательстве, что последовало за «Маравильей» и битвой на Исстване-V. Орел, когда-то украшавший барельеф Императора, был сломан и частично расплавлен мелта-взрывом, который уничтожил Врата. Приступ разрушительного безумия тогда чуть не уничтожил и весь корабль, и Фулгриму пришлось вмешаться, чтобы восстановить хоть какой-то порядок.
Несообразность названия корабля – «Гордость Императора» – вызвала у Люция смех, и фанатики, лишенные одежды и даже кожи, застонали от удовольствия, услышав этот резкий, похожий на плач банши звук. Многие, и Юлий Кесорон громче всех, требовали, чтобы название и корабля, и легиона сменили – так, как это сделали Сыны Хоруса. Но примарх ответил на все просьбы отказом. Связи с прошлым должны были остаться как зловещее напоминание для врагов о том, что они сражаются с собственными братьями. Смерть Ферруса Мануса заслужила легиону благоволение Хоруса Луперкаля, и на какое-то время всех захлестнула волна чувственной эйфории. Но, как свойственно волнам, она вскоре схлынула, оставив Детям Императора ощущение пустоты. Некоторые, как Люций, заполнили ее совершенствованием в воинском мастерстве, другие же предались желаниям и порокам, ранее сокрытым. Узы порядка ослабли настолько, что в некоторых частях корабля воцарилась полная анархия, однако вскоре удалось обеспечить соблюдение некоего подобия дисциплины.
Но дисциплина эта была странная, и эксцентричное поведение в ней вознаграждалось и наказывалось с равной частотой; в некоторых случаях грань между наказанием и наградой стиралась. Легионеры старались обрести новый смысл жизни, старались всем сердцем служить новым принципам, но без командной структуры они не могли функционировать как военная единица.
Несмотря на все, они были воинами, хотя и без войны.
Следуя приказам, Дети Императора покинули Исстван, но примарх не поделился с ними сутью указаний, полученных от Воителя. Никто не знал, в какую зону военных действий они направляются или каким окажется враг, которому суждено отведать клинков легиона, и неведение раздражало. Даже старшие офицеры не были посвящены в эту тайну, но приказ примарха собраться в Гелиополисе наверняка означал, что ситуация вскоре прояснится.
Увидев в соединительном коридоре приближающегося Эйдолона, Люций схватился за рукоять лаэранского меча. Лорд-коммандер ненавидел мечника и никогда не упускал возможности напомнить Люцию, что он так и не стал здесь своим. Кожа Эйдолона, восковая и бледная, была туго натянута вокруг увеличенных глазниц. На шее, словно провода, выступали напряженные сухожилия; нижняя челюсть своей подвижностью напоминала змеиную.
Броню Эйдолона покрывали кричаще яркие полосы пурпурного и синего цветов, образуя безумный рисунок, который не имел ничего общего с камуфляжем. Люцию пришлось напрячь зрение, чтобы понять, что именно он видит; такая броская раскраска в легионе стала нормой, и воины старались превзойти друг друга в экстравагантной вычурности.
Сам мечник лишь недавно начал украшать свой доспех. Сейчас на его пластинах были изображены поражающие взгляд лица, растянутые до неузнаваемости. Внутреннюю поверхность наплечников покрывали зазубренные металлические шипы, которые кололи и царапали плоть при каждом движении рук. Высота и наклон шипов были тщательно подобраны так, чтобы причинять самую пронзительную боль, если вдруг движения клинков отклонятся от самых совершенных из всех возможных траекторий.
Эйдолон сделал глубокий свистящий вдох; кости его челюсти, казалось, скользили под кожей, и лишь когда они встали на место, он заговорил:
– Люций. – Тембр и модуляции, с которыми было выплюнуто его имя, отозвались в сознании мечника сладостным диссонансом. – Тебя здесь не ждут, предатель.
– Но я все равно пришел. – Проигнорировав Эйдолона, Люций двинулся дальше.
Лорд-коммандер догнал его и попытался схватить за руку, но Люций увернулся, и клинки взвились к шее Эйдолона серебряной тенью, за которой глаз не мог уследить. Оба меча – и лаэранский, и терранский – были готовы скреститься благодаря лишь одному движению запястий Люция, и противник был бы обезглавлен. На лице Эйдолона отразилось удовольствие, толстые вены на шее пульсировали, расширенные зрачки казались черными дырами.
– Я бы отрубил тебе голову, как Чармосиану, – сказал Люций, – но не буду, потому что тебе бы это понравилось.
– Я помню тот день, – ответил Эйдолон. – Тогда я поклялся, что убью тебя, и все еще могу сдержать слово.
– Не думаю, ты недостаточно для этого хорош. Ни ты и никто другой.
Эйдолон рассмеялся, отчего его рот распахнулся, словно глубокая рана.
– Ты самонадеян, но однажды примарху это надоест, и тогда ты достанешься мне.
– Надоест или нет, но точно не сегодня. – Люций в несколько отточенных шагов отстранился от Эйдолона. Обнажить клинки в бою, почувствовать, как они мягко вдавливаются в плоть, – это было приятно, и он действительно хотел убить Эйдолона, который с первых дней раздражал его, словно заноза. Однако лишать примарха его самого рьяного поклонника не следовало.
– Почему же не сегодня? – допытывался лорд-коммандер.
– Сегодня – канун битвы, и это единственное время, когда я никого не убиваю.
[1] Клод Шаброль.
2
Бесчисленные пятна краски и крови изуродовали бледную поверхность грандиозных каменных стен; в величественных статуях, поддерживавших кессонный купол, уже нельзя было узнать героев Единения и легиона. Их превратили в изображения старых лаэранских богов с бычьими головами, склоненными или отвернутыми в сторону, словно эти скрытные существа хранили какой-то заманчивый секрет.
Между колонн из зеленого мрамора, украшенных каннелюрами, свисали разорванные знамена, чью ткань опалило перерождение легиона. Черный мозаичный пол в Гелиополисе благодаря инкрустации из мрамора и кварца напоминал небесный свод, в котором отражался сверкающий луч звездного света, падавший из центра купола. Этот свет был в зале и сейчас – даже более яркий, чем раньше, и, отражаясь от полированного пола, приобретал ослепительную интенсивность.
Когда-то по периметру зала советов стояли скамьи, ярусами, словно на гладиаторской арене, поднимавшиеся вдоль стен. Этих скамей больше не было, ибо никто не смел сидеть выше, чем примарх Детей Императора; из обломков в середине зала сложили постамент, неровный и блестящий, похожий на резной идол какого-то варварского божества. На этом постаменте возвышался черный трон, невероятный в своем великолепии, гладкий и как зеркало блестящий. Только этот трон и напоминал о прошлом облике Гелиополиса, и оставили его лишь потому, что его царственное величие подходило примарху.
Железные вокс-кастеры гремели диссонансом: то были крики лоялистов, гибнувших на черном песке, оглушительная какофония ста тысяч орудий, музыка удовольствия и боли, слившихся в одно. С таким звуком убивают империю, с таким звуком изменяется ход истории, и он повторялся снова и снова, ничуть не надоедая воинам, вынужденным его слушать.
В зале собралось около трехсот легионеров, и многих из них Люций помнил по битве на Исстване-V: первый капитан Кесорон, Марий Вайросеан, мрачный Калимос из Семнадцатой, апотекарий Фабий, спесивый Крисандр из Девятой – и еще пара десятков тех, кому Люций придумал унизительные прозвища. Некоторые были ветеранами легиона, некоторые лишь недавно привлекли мимолетное внимание примарха; но еще больше было здесь простых членов Братства Феникса, которые следовали за старшими по званию.
Название этого скрытного ордена, как и у самого легиона и кораблей его флота, осталось прежним.
Люций протолкнулся поближе к Юлию Кесорону, наслаждаясь прекрасными увечьями, преобразившими лицо первого капитана. Воин из Железных Рук по имени Сантар изуродовал Кесорона гораздо сильнее, чем получилось бы у Люция: хотя Фабий и восстановил большую часть его лысой головы, лоскуты искусственно выращенной ткани, пришитые к сплавившимся костям, слезящиеся белесые глаза и обожженные рубцы шрамов, цветом напоминавшие корродированую медь, производили ужасное впечатление.
Трансформация Кесорона вызывала восхищение, но казалась незначительной по сравнению с переменами, постигшими Мария Вайросеана. Первый капитан получил свои шрамы в бою с врагом, уродство же Мария стало даром сил, освобожденных «Маравильей». Челюсти его были зафиксированы в открытом положении с помощью усеянных шипами проводов, так что казалось, будто он непрестанно кричит. Глаза красные от воспаления, грубые шрамы на веках от проволоки, не дающей им закрыться. На удлиненном черепе, там, где раньше были уши, теперь виднелись две огромные раны в форме буквы V.
Доспехи обоих капитанов были изысканно украшены шипами и выделанной кожей, снятой с тел, что в изобилии остались лежать на паркетном полу «Ла Фениче». И Кесорон, и Вайросеан были кричаще разодеты, их увечья бросались в глаза, но Люцию оба они все равно казались пережитком прошлого – безоговорочно верные офицеры, лишенные амбиций и талантов, которые способны заставить воина сверкать ярче звезд.
– Капитаны, – произнес Люций, приправив каждый звук этого официального обращения идеально выверенной смесью уважения и презрения. – Кажется, нас наконец призывает война.
– Люций, – отозвался Вайросеан, приветственно кивнув; слова, которые с щелчком челюстей выговаривал его широко распахнутый рот, быстро становились практически неразборчивыми.
За надменность, пусть и скрытую, мечнику полагалось жестокое взыскание, но звезда его в последнее время начала восходить, и Эйдолон, всегда державший нос по ветру, об этом прекрасно знал, как знал и вечный подхалим Вайросеан.
Кесорон, которого запугать было значительно труднее, обратил на Люция хмурый взгляд. Шрамы не давали определить по мимике, о чем он думает, так что о его истинном настроении оставалось только гадать.
– Мечник, – прозвучало из раны, которая зияла на месте рта Кесорона. – Ты – червь, и притом червь наглый.
– Вы льстите мне, первый капитан, – ответил Люций, ответив на враждебность взглядом, который выражал полнейшее равнодушие. – Я стараюсь служить примарху наилучшим образом.
– Ты служишь только самому себе, – рявкнул Кесорон. – Жаль, что я не бросил тебя на Исстване-III вместе с теми, кто несовершенен. Думаю, положить конец твоему убогому существованию – мой долг.
Сжав эфес лаэранского меча, Люций склонил голову набок.
– Я с огромным удовольствием предоставлю вам такую возможность, первый капитан.
Кесорон отвернулся, что вызвало у мечника улыбку: он знал, что тот никогда не решится открыто исполнить угрозу. В поединке Люций выпотрошил бы его в первые же мгновения, и сама мысль об убийстве первого капитана вызвала дрожь наслаждения.
– Хоть что-нибудь известно о том, где мы? – спросил мечник в уверенности, что ни Кесорон, ни Вайросеан не знают ответа, и желая продемонстрировать их невежество всем вокруг.
– Это знает один лишь Фениксиец, – покачал головой Вайросеан; резкие обертоны его голоса мало отличались от ревущих разрядов его звуковой пушки.
– Разве вам не сказали? – переспросил Люций с ухмылкой, в то время как в проем, зиявший на месте Врат Феникса, устремилась вереница носильщиков с головами, покрытыми капюшонами. Слуги, несшие на спинах тяжелые железные бочки, казались Люцию муравьями, которые доставляют пищу в муравейник. – Я-то думал, что воин вашего статуса узнает, куда мы направляемся, одним из первых. Неужели вы чем-то разозлили примарха?
Вайросеан проигнорировал явную провокацию и кивнул Эйдолону, который, как обычно ища выгоду, встал рядом с Кесороном. Раньше первый капитан был одним из самых приближенных к Фулгриму, и хотя Фениксиец, по-видимому, не слишком стремился сохранить старые привязанности, многие в легионе все равно уважали Кесорона.
«Многие, но не я», – подумал Люций и удивленно ухмыльнулся, заметив честолюбивый блеск в глазах Эйдолона. Лорд-коммандер, так отчаянно цеплявшийся за любимчиков примарха, выглядел жалко, и презрение, которое чувствовал к нему Люций, достигло новых высот.
– Кажется, Фулгрим решил вскрыть последние бочки с вином победы, – сказал он с неуместным дружелюбием. – Обычно мы делаем так только перед битвой.
– Старая традиция легиона, – влажно прохрипел Вайросеан.
– Мы все еще поднимаем тост за победу, – сказал Люций и эффектным движением обнажил мечи – так, что стоявшие поблизости воины не могли не обратить внимание на серебряный клинок, подарок Фулгрима. – Хорус ли отдает приказы или Фениксиец – богам разврата все равно, а мы по-прежнему будем пить за это.
– Не пристало нам чтить прошлое, которое было до нашего возвышения, – заметил Эйдолон.
– Но кое-что из этого прошлого пережило Исстван, – ответил Люций, которого позабавило столь откровенное подхалимство лорда-коммандера.
Бочки с вином победы расставили вокруг черного трона, возвышавшегося в колонне ослепительного света. Аромат вина, горький, как у травильной кислоты, был очень силен, и собравшиеся воины склонились ближе, чтобы распробовать этот резкий запах, прекрасно понимая при этом, что тот означает.
При мысли о грядущем сражении кровь Люция быстрее побежала по венам: его изнурило вынужденное бездействие во время путешествия от системы Исстван. Ему отчаянно, до боли хотелось ощутить, как хлещет кровь из вскрытой артерии, хотелось испытать ту внутреннюю дрожь, с которой встречаешь равного соперника.
Он попробовал вспомнить имена прославленных мечников из легионов, сохранивших верность Императору, но не смог назвать среди этих воинов никого, кто сравнился бы с ним. Сигизмунд из Кулаков управлялся с мечом умело, хотя и слишком прямолинейно; Нерон из Тринадцатого мог убить с претензией на изящество, но его движения явно были заученными, механическими. В памяти всплывали и другие имена, но никто из этих мечников даже не приблизился к вершинам мастерства, которых достиг Люций.
– Может, мы наконец отправимся на Марс, – предположил он. – Мы уже проделали долгий путь; возможно, мы готовимся к встрече с другими флотами, которые по приказу Хоруса движутся к Красной планете.
– Воитель, – произнес Эйдолон, и наивное восхищение заставило туго натянутую кожу на его лице собраться в морщинки. – Мое имя ему знакомо: несколько раз он удостоил меня похвалы.
Люций знал правду, но не успел оспорить утверждение Эйдолона. Вокс-передатчики, висевшие между колонн, грянули новым разрядом какофонии: это был великолепный вопль рождения и убийства, наполненный антигармониями, словно заиграли расстроенные инструменты миллиона оркестров. Настоящий звук исступления, прихотливая смесь музыки диссонансов и воющих голосов, которые гремели в отвратительном экстазе.
Из-под купола брызнул поток света – блистательный дождь, сверкавший не менее ярко, чем атомный взрыв. Дети Императора взвыли: их органы чувств, изуродованные Фабием, перегрузили нервную систему острыми биоэлектрическими импульсами, в которых реакция на удовольствие мешалась с сигналами боли. Какофония звука и света заставила воинов биться в конвульсиях, дергаться, словно безумцы или эпилептики. Некоторые раздирали кожу, другие бросались на товарищей, третьи, выкрикивая нечленораздельные проклятия, в кровь сбивали кулаки, колотя ими об пол.
Люций застыл на месте, борясь с наплывом ощущений и от этого получая десятикратно большее удовольствие: намеренное сопротивление делало эту чувственную пытку только слаще. С губ капали кровь и слюна, кости и мышцы дрожали в такт с грохочущим безумием.
Легион кричал в исступленной радости, но даже это было всего лишь прелюдией.
В свете проступил силуэт – ангел погибели, бог во плоти, воплощение излишества, достигнувшего своего предела. Фулгрим пронесся сквозь столп света подобно комете, сверкающей на небосводе; его броня горела пурпуром, как умирающий закат. Он с грохотом опустился на мозаичный пол, и огненно-золотой кольчужный плащ ангельскими крыльями взметнулся над его плечами. С высокого чела снежным водопадом ниспадала грива волос; тонкие, благородные черты лица заострились, напоминая эльдарские, но ни один из чахлых сирот Азуриана не смог бы похвастаться такой же надменной силой.
На этот раз Фулгрим отказался от яркой косметики и ароматных масел; его лицо было бледным, почти бесплотным, словно это призрак облачился в отполированную до зеркального блеска броню. Глаза его были черными провалами, навеки чуждыми света, губы изгибались в улыбке, обещавшей знание столь непостижимое, что никто, кроме примарха, не смог бы прикоснуться к нему и сохранить при этом разум.
Люций присоединился к хору ликующих криков – гимну во славу излишествам, пандемониуму, воспевавшему их владыку. Близость примарха отзывалась в крови огнем. Фулгрим распростер руки навстречу выражениям восторга, запрокинул голову, и его полные губы раскрылись в экстазе от такого восхищения.
Дискордии, гремевшие из вокс-передатчиков, стихли, и примарх наконец одарил своих воинов взглядом. Золотой плащ упал на плечи, и серебряная кольчуга, видневшаяся под безупречным рельефным нагрудником, мерцала, словно поток звезд. На поясе из мягкой черной кожи, с черной пряжкой с янтарной инкрустацией, висели ножны из черного дерева, перламутра и дымчатой слоновой кости.
Анафем.
Люцию этот меч был прекрасно знаком, и хотя сейчас оружие принадлежало величайшему из всех воинов, он не удержался от того, чтобы представить, каково это оружие в бою. Почувствовав его внимание, Фулгрим перевел взгляд обсидиановых глаз на мечника и улыбнулся, словно признавая некую невидимую связь с ним.
Чувствуя силу, заключенную в этом взгляде, Люций постарался ничем не выразить своих подозрений. Он широко улыбнулся примарху и, подняв свои клинки ко лбу, рассек кожу. Капли крови попали в глаза, потекли по бороздкам сотни шрамов, и Люций с наслаждением ощутил горький, едкий вкус крови на языке.
– Дети мои, – заговорил Фулгрим, когда безумие стихло. – Я несу вам блаженство.
3
Фулгрим еще мгновение понежился в обожании, которым наградили его воины, а затем поднял руки, призывая собравшихся к тишине. Взгляд его черных глаз вызывал одновременно восхищение, смирение, опьянение и боль, и никто из воинов не мог его выдержать. Примарх обошел вокруг постамента, осматривая возвышавшийся трон, словно тот факт, что столь величественное сооружение предназначалось для него, внушал ему легкое смущение.
– Сыны мои, вы проявили огромное терпение, – сказал Фулгрим, останавливаясь у подножия постамента. – Я же проявил невнимательность.
В ответ раздался хор несогласных голосов, но Фулгрим заставил их смолкнуть, подняв раскрытые ладони и улыбаясь с ироничным неодобрением.
– Нет, это правда. Я ни словом не обмолвился о конечной точке нашего пути, так что мои любимые дети вынуждены были пребывать в неведении. Простите ли вы меня?
И вновь Гелиополис наполнился громкими возгласами – оглушительные звуки, которые не могли родиться в горле обычного смертного. Некоторые воины рухнули на колени; другие стали бить себя кулаками в грудь; но гораздо больше было тех, кто выразил свое согласие простым бессловесным криком.
– Вы делаете мне честь, – сказал Фулгрим, принимая их одобрение.
Все это время Люций следил за примархом, изучал каждое его движение и жест в поисках хотя бы намека на то, что это замечательное создание было кем-то – или чем-то – иным. Фулгрим, облаченный в великолепие доспехов, вызывал дурманящую оторопь одним своим присутствием. Ничего вульгарного, ничего кричащего – одно лишь совершенство. Казалось, достигнув вершин безупречности, он отказался от любых внешних проявлений, с помощью которых можно было выразить верность Темному Принцу и его пути. Стоило только заглянуть в глаза примарха, и становилось ясно, что его способность предаваться излишествам в любой из возможных форм не знает границ. Фулгрим вдоволь испил из источника чувственности, без которого жизнь была пустой и серой, без радости и без смысла.
– Я несу вам вино победы и сладкую ласку войны, которую вы сможете вкушать, пока не пресытитесь. Я несу вам симфонию боя, блаженство экстаза и восторг боли, с которой будут умирать наши противники. Огненное пиршество Исствана осталось далеко позади, и я решил, что настало время вновь омочить наше оружие в крови врагов.
Собравшиеся приветствовали эти слова криками одобрения, и Фулгрим принимал выражения любви так, словно для него это была приятная неожиданность, а не часть сценария. Примарх взмахнул тонкими, почти хрупкими пальцами в сторону середины зала, где немедленно возникло мерцание голограммы: сверкающая модель гравитационного танца планет вокруг яркой звезды.
– Узрите систему, которую я назвал Кластером Призматика, – сказал Фулгрим, и голограмма увеличила изображение пятой планеты в этой свеженареченной системе.
Планету окружало, словно северное сияние, многоцветное марево; когда изображение еще увеличилось, Люций разглядел, что этот мир состоит из перекрывающих друг друга полос черноты и алмазного сияния. На орбите, следуя за вращением планеты, находилось несколько огромных грузовых и промышленных станций с причалами для грузовозов. Пятна из железа и стали указывали на присутствие некоторого количества таких судов, а точки мигающего света, раскинувшиеся между ними, могли быть только оборонительными платформами.
– Здесь я предоставлю вам возможность доказать, что вы как воины из детей Императора действительно любите меня, – сказал Фулгрим, проходя через голограмму, так что призрачная планета озарила его безупречные черты отраженным звездным светом. – Прислужники марсианского жречества эксплуатируют эту планету с помощью грубой техники, роются в земле, ища кристаллы, которые затем отправляют на Марс.
Вокруг планеты возникла рябь ноосферного света, в котором чередовались строки данных: прогнозные расчеты, размеры выработок и полагающейся с них десятины. Просмотрев несколько строк, Люций почувствовал скуку и сконцентрировался на блестящей поверхности самой планеты. За исключением некоторой эстетической привлекательности, в ней не было ничего особенного: ни реальной значимости, ни стратегической ценности. Он не видел, что могло в этой планете привлечь внимание примарха. Неужели он что-то упустил? Что-то, что Фулгрим, наоборот, сумел заметить?
Может быть, кристаллы были исходным материалом, нужным для какого-то важного производственного процесса? Люций быстро отбросил это предположение как несущественное: ценность кристаллов для марсианского жречества могла стать поводом помешать их добыче, но столь захолустная планета явно не заслуживала внимания целого легиона.
Фулгрим не отводил глаз от Призматики-V, как будто этот медленно вращающийся шар заворожил его сверкающей красотой своей поверхности. Губы примарха беззвучно шевелились, а потом он улыбнулся, словно его развеселила некая тайная шутка или остроумное замечание, высказанное невидимому слушателю точно в нужный момент. На ум Люцию пришла глупая мысль, которую он оставил при себе, понимая, что высказывать такое вслух немудро. Эйдолон, который, похоже, подумал о том же самом, подобного благоразумия не проявил:
– Милорд, я не понимаю. Ради чего все это?
Фулгрим резко развернулся, и бледное лицо его исказилось в злобной гримасе. Вне себя от ярости, он двинулся к Эйдолону, и Люций быстро отошел в сторону, чтобы не оказаться в эпицентре гнева примарха. Одним ударом Фулгрим отбросил лорда-коммандера назад, словно насекомое, и тот рухнул на обломки, оставшиеся от разрушенных ярусов. Нагрудник его раскололся, и кровь брызнула на туго натянутую кожу.
– Ты посмел усомниться во мне? – прорычал Фулгрим, возвышаясь над поверженным воином.
– Нет, милорд, я просто…
– Червь! – заорал примарх. – Таково мое желание, и ты его оспариваешь?
– Я…
– Молчать! – Взбешенный Фулгрим поднял перепуганного Эйдолона за горло.
Чужое унижение отозвалось в Люции чувством возбуждения. Он видел, как Фулгрим в приступе ярости сломал оплавленную шею божеству ксеносов, и не сомневался, что Эйдолон не сможет ничего противопоставить такой силе.
На лице лорда-коммандера был написан неподдельный ужас, и Люций облизнул губы от одной только мысли, сколь сладостным такое неизведанное ощущение должно быть для Адептус Астартес.
–Я твой господин, однако ты вот так оскорбляешь меня? – Гнев Фулгрима сменился горькой обидой. – Я даю тебе войну, и вот как ты благодаришь меня – вопросами и сомнением? Неужели эта кампания недостойна тебя? Или ты слишком хорош, чтобы подчиняться моим приказам? В этом все дело?
– Нет! – воскликнул Эйдолон. – Я… Я лишь хотел узнать…
– Узнать что? – рявкнул Фулгрим; боль обиды вновь превратилась в гнев. – Отвечай, ничтожество! Признавайся же!
Лицо Эйдолона, извивавшегося в руках Фулгрима, побагровело, сравнявшись цветом с доспехами примарха. Он судорожно пытался вдохнуть, но его генетически улучшенное тело оказалось бессильно.
– Разве нам не приказали двигаться к Марсу? – выдавил Эйдолон. – Разве из-за этого мы не опоздаем на рандеву с флотом Воителя?
– Хорус – мой брат, а не хозяин, и я не подчиняюсь его приказам, – прорычал Фулгрим, словно лорд-коммандер, упомянув имя Хоруса Луперкаля, смертельно его оскорбил. – Кто он такой, чтобы повелевать мной? Я Фулгрим Фениксиец и я никому не служу. Если Хорус думает, что может вот так, напрямую, атаковать Терру, словно одержимый кровью берсерк, то он просто дурак. Самую защищенную планету в Галактике не взять обычным штурмом – такая цель требует искусного подхода. Ты понял?
– Да, милорд, – просипел Эйдолон, но гнев Фулгрима еще не утих.
– Я хорошо знаю тебя, Эйдолон, очень хорошо. – Он бросил задыхающегося лорда-коммандера и повернулся к изображению сверкающей планеты. – Ты не скупишься на язвительные замечания и втайне ведешь разговоры, которые подрывают мой авторитет. Ты червь в сердцевине яблока, и я не допущу, чтобы у того, кто сомневается во мне, появилась возможность вонзить мне нож в спину.
Эйдолон, чувствуя в словах Фулгрима страшную угрозу, рухнул на колени.
– Прошу вас, милорд! – взмолился он. – Я верен вам! Я никогда не предам вас!
– Предашь меня? – Фулгрим быстро обернулся, извлекая из ножен серебристо-серый клинок-анафем. – Ты смеешь вслух говорить о предательстве? Здесь, среди моих самых верных последователей? Ты даже глупее, чем я думал.
– Нет! – закричал Эйдолон, но Люций понял, что все напрасно.
Лорд-коммандер, следует отдать ему должное, и сам это понимал: он потянулся за мечом, но Фулгрим уже был готов нанести смертельный удар. Эйдолон едва начал доставать клинок из ножен, как анафем уже перерезал его шею и отделил голову от тела, после чего она с глухим стуком упала на мозаику пола, прокатившись некоторое расстояние. Голова остановилась у одной из бочек с вином. Глаза моргнули, губы растянулись, обнажая расколотые зубы в гримасе такого ужаса, что Люцию захотелось смеяться.
Труп Эйдолона рухнул на пол; Фулгрим, отвернувшись от него, подобрал отсеченную голову. Из перерезанной шеи густым потоком струилась кровь, и примарх обошел зал по кругу, по очереди добавляя уже сворачивающиеся капли в каждый от открытых сосудов с вином победы.
– Пейте, дети мои, – сказал он так, словно все случившееся было мелким происшествием. – Наполните кубки и поднимите тост за великую победу, которую я даю вам. Мы начнем войну на Призматике и покажем Воителю, как следует вести кампанию!
Дети Императора наперегонки бросились к вину: каждый стремился первым вкусить угощения, приготовленного примархом. Не выпуская из рук голову Эйдолона, Фулгрим поднялся на постамент и расправил золотое полотно плаща, прежде чем занять трон. Взгляд, которым он окинул воинов внизу, выражал одновременно снисходительность и легкое высокомерие.
Люций вспомнил, как Фулгрим обнажил меч и перерезал горло Эйдолону. Испытанный глаз мечника анализировал каждое движение примарха: сделанные им шаг и выпад, поворот плеч, разворот бедер при нанесении удара. Одно движение с неотвратимостью перетекало в следующее, единственно возможное в этой ситуации. Безупречное тело примарха ни на миг не потеряло равновесия, но все же Люций кое-что заметил – то, что мог заметить только величайший из мечников-смертных. Наблюдение вызвало в нем восхитительную смесь волнения и разочарования.
Мысль, последовавшая затем, казалась невозможной и предательской, но Люций не мог от нее удержаться:
«Я мог бы победить тебя. Сразись мы прямо сейчас, я бы тебя убил».
4
Воины Механикум были опасными противниками, аугментированными и искусственно усиленными до сверхчеловечности, но Люцию начинало казаться, что их вовсе не обучали искусству ближнего боя. Он танцевал в вихре мечей, и его парные клинки описывали дуги, вскрывая яремные вены, отсекая конечности и снимая с голов скальпы.
Эти люди были просто громилами, благодаря примитивным операциям ставшими крупнее и сильнее большинства смертных, но в их мощи не было искусности. Любой может накачать человека стимуляторами роста и вживить в него набор боевой аугментики, но какой от этого будет толк, если его не научат всем этим пользоваться?
На него бросился боевой сервитор в лазурной броне, почти полностью лишенный какой-либо органики. Поток снарядов, вырвавшийся из установленной на плече пушки, выбил осколки из глянцевитого вулканического камня, но Люция там уже не было. Он кувырком ушел под линию огня, разрубил бешено вращающиеся стволы оружия и погрузил терранский меч в тонкую щель между пластинами брони на животе.
Маслянистая черная кровь хлынула из раны под напором, как гидравлическая жидкость из привода, и Люций с разворотом вошел в предел досягаемости оставшейся руки. Щелкающая клешня, покрытая всполохами энергии, устремилась к его ногам, и Люций воспользовался ей, как трамплином. Он оттолкнулся от выступающего обломка брони на бедре сервитора и, сделав кувырок, оказался на его широких плечах. Серебряный лаэранский меч вошел в закрытый броней череп конструкта, и Люций почувствовал, как внутри разрывается что-то влажное и живое. Он спрыгнул с умирающего сервитора, с удовольствием отметив, что лезвие меча покрылось красным.
Биомашина покачнулась, но не упала, хотя явно была мертва.
Люций сделал паузу в череде убийств, чтобы стряхнуть кровь с мечей, как вдруг прогрохотал взрыв, и в небе поднялся гриб, от которого пошла ударная волна. Неочищенный прометий сгорал, наполняя богатую фторуглеродом атмосферу вонью нефтехимикатов, от которой у Люция на мгновение приятно закружилась голова.
Вокруг него метались Дети Императора, остервенело расстреливая толпы обороняющихся. Тщательно продуманная операция по массовому истреблению превратилась в шумную свалку. Сотни аугментированных воинов обороняли главные очистительные и перерабатывающие заводы, но у них не было шансов. На защитников Призматики обрушились три роты Детей Императора, и никому не удастся спастись.
Люций был вынужден признать, что разделял мнение погибшего лорда-коммандера Эйдолона об этой операции, хотя и тщательно скрывал ото всех свои мысли. Их флоту, с «Андроником» и «Гордостью Императора» во главе, потребовалось всего десять часов, чтобы расчистить путь через заставу из наблюдательных аппаратов и уничтожить орбитальную защитную систему. Они захватили три навалочных судна – километровых гигантов, нагруженных миллиардами тонн сияющих зеркальных кристаллов.
Когда пространство на орбите было расчищено, эскадры «Грозовых птиц» спустились к крупнейшим заводам на юге от широкого леса из кристаллических шпилей, и резня началась. Заводы Механикум горели, все до единого, а Дети Императора свирепствовали в просторных складах и огромных, как ангары, залах очистки. Над сражающимися высились буровые установки, и их зубчатые сверлильные манипуляторы вздымались к небу, словно лапы богомола.
Марий Вайросеан вел свою роту ревущих какофонов на западный фланг комплекса, снося его оборону с мрачной методичностью. Из железных ущелий между высокими строениями доносились пронзительные импульсы нестройного грохота: чудовищное звуковое оружие разрывало материю на атомы резонансными волнами, которые отдавались эхом между мирами.
Здания падали, словно бумажные, а накатывавшие звуковые волны оставляли в базальтовой поверхности глубокие трещины. Крики умирающих вплетались в крещендо накладывавшихся друг на друга раскатов, и это была пронзительная симфония разрушения, заставлявшая вспоминать о восхитительном сумасшествии «Маравильи».
Люций держался на расстоянии от Мария Вайросеана, поскольку какофоны почти полностью оглохли и теперь воспринимали лишь самые громкие звуки. Мечнику же, чтобы быть безупречным, необходимо было иметь идеальный слух и здоровое внутреннее ухо. Ему придется отказаться от удовольствия, которое могли доставить бьющие по нервам ритмы мучительно ярких нот.
Фулгрим, окруженный массивными терминаторами из Гвардии Феникса, лично вел наступление в сердце оборонительных войск Механикум. Рядом с ним сражался Юлий Кесорон, пробивая путь через отряды боевых сервиторов и фаланги скитариев, охранявших узкие проходы с помощью автоматизированных орудийных установок.
У них не было шансов против грубой мощи Фениксийца и солдат Кесорона. Примарх был неудержимым воплощением разрушительной силы, а воины в терминаторской броне становились практически неуязвимы. Те, кого все же ранили, замечали, что боль только усиливала их экстаз.
Фулгрим был божественен – гигантская аватара красоты и смерти в развевающемся золотом плаще, отражавшем радужный солнечный свет ослепительно яркими бликами. Его броня сияла, как путеводная звезда, а где он ступал, там существа из плоти и железа безостановочно падали, рассеченные его серым мечом. Он пел, убивая, – пел полную тоски элегию забытого Хемоса, что рассказывала о погибшей красоте и об утерянной навеки любви.
Даже Коралина Асенека никогда не пела ничего столь прекрасного, и была какая-то извращенность в том, что механические люди, гибнущие вокруг, не могли оценить чудо, им представшее, и великолепие того, кто снизошел к ним, чтобы лишить их жизни. Они умирали, не понимая, какой чести удостоились, и за это Люций их ненавидел.
Из загоревшегося очистительного завода вырвался дым, и Люций разочарованно взвыл, когда черно-фиолетовые облака закрыли от него воюющего Фулгрима. Он перевел внимание с чужих битв к собственной арене смерти.
Фулгрим доверил ему восточный фланг, и он со своими воинами проводил дерзкие отвлекающие удары, предсказуемо вынуждавшие врага покидать оборонительные позиции. С контратакующими расправлялись раз за разом, пока полоса обороны не была уничтожена, после чего воины Люция двинулись вперед, не встречая на пути почти никакого сопротивления. Он прокладывал через укрепления красно-серебряный путь, окружал очаги сопротивления и с немыслимым мастерством и злостью разделывался с воинами, чей вид вселял самые большие надежды на опасный бой.
Он запрыгнул на опрокинувшийся боевой механизм – десятиметровую двуногую машину, в которой была пробита кабина принцепса, а из кокпита капал розовый амниотический гель. Люций видел, как машина выходила из бронированного ангара на краю оборонительных позиций, и тогда еще подумал, не заняться ли ей. В нем говорило его гигантское тщеславие, и он со смехом отказался от этой идеи: только глупец станет сражаться с такой машиной в одиночку. Она упала под перекрестным огнем звуковых пушек, не успев сделать и десятка шагов.
Люций поднял меч к переливающемуся небу, приняв ради своих воинов соответствующую моменту героическую позу.
– Вперед, в огонь! Покажем этим механическим людям, что такое боль!
Не успел он это прокричать, как облака дыма разошлись, и земля затряслась от тяжелых, грохочущих шагов. Высоко над Люцием из дыма показалась оскаленная звериная морда. Бронзовый бронированный кокпит боевой машины был выполнен в форме головы мастифа, на нем под порывами горячего воздухе покачивались знамена, а на серо-коричневом корпусе гордо сиял золотой орел с перекрещенными мечами.
Огромная боевая машина вышла из развалин фабрики и направилась к своему погибшему брату, заставив Люция ощутить прекрасную в своей неожиданности вспышку страха.
– Ах да, – сказал Люций. – Они охотятся парами.
Боевая машина вскинула орудия, и автоматические заряжатели начали с щелканьем отправлять крупнокалиберные снаряды в казенники чудовищно огромных пушек. Люций вызывающе стоял на корпусе побежденного титана, но спрыгнул, едва машина открыла огонь с оглушительным грохотом тысяч молотов, бьющих по наковальне бога войны. Долетев до земли, он сделал кувырок, и тут же его ослепил ураган каменной крошки, пыли и отработанных газов.
За его спиной ярко горели руины, и, увидев на их фоне темный силуэт боевой машины, он вскочил на ноги. Титан склонил голову, будто пытался отыскать его по запаху, и Люций сильнее сжал рукояти мечей.
Опять заревели орудия, накрыв Детей Императора дождем снарядов, выбивавших осколки из каменной земли. Под этим шквалом распадалась броня, испарялась плоть, а крики умирающих были музыкальны, полны боли и непродолжительны.
Титана поливали ответным огнем, его щиты искрили и покрывались яркими всполохами, разряжаясь. Наиболее мощные выстрелы ненадолго оставляли углубления в невидимом щите, как камни, брошенные в светящуюся воду. К титану устремилась ракета, и боеголовка взорвалась, образовав алый шар перегретой плазмы. Воздух разрывали пронзительные частоты, но щиты все держались, хотя Люций видел, что они скоро выйдут из строя.
– Сюда, ублюдок! – прокричал он, наслаждаясь переполнявшими его бурными эмоциями. Модифицированная апотекарием Фабием нервная система ответила на мощный раздражитель и наградила его пьянящей смесью из усилителей удовольствия и гормональных стимуляторов. Люций в мгновение стал быстрее, сильнее и внимательнее к происходящему вокруг.
Механизм повернул к нему песью голову, и из боевого рога вырвался пронзительный вой, полный гнева и горя. Люций тоже закричал в ответ на его яростный рев, вызывая машину на бой. Резко улучшившиеся органы чувств позволили ему в мгновение подметить тысячу мелких деталей: красивую текстуру его металлического покрытия, стремительные порывы дыма из орудий, отблески красочного света на алых панелях кокпита, охлаждающие газы, вытекавшие из скрытых под корпусом механизмов, и горький железный привкус разума внутри.
Люций испытал все это – и множество других ощущений – за долю секунды. Впечатления были так сильны, что он покачнулся и заморгал, пытаясь прогнать всполохи света перед глазами. Боевой рог опять заревел, и титан направил на Люция свои орудия. Механизм впустую тратил силы, концентрируясь на одном воине, но он видел, как Люций стоял на его поверженном близнеце, и обозначил его как цель.
Люций знал, что ему не победить столь сильного противника, и повернулся, намереваясь пуститься в бегство, но не успел он сделать и шага, как из дыма вышел ангелоподобный воин с золотыми крыльями. В одной руке у него был грубо вытесанный клинок, в другой – длинноствольный пистолет из серебра и оникса. Снежно-белые волосы, обрамлявшие прекрасное лицо, развевались под порывами горячего воздуха от машинного реактора.
– Пожалуй, я им займусь, Люций, – сказал Фулгрим, направляя пистолет на боевую машину.
Фулгрим выстрелил со спокойствием дуэлянта на туманном пустыре. Из пистолета вырвалось копье ослепительного света, наполненного жаром новорожденной звезды. Оно ударило прямо в центр щита, и тот перегрузился с пронзительным грохотом тысячи разбитых зеркал и со вспышкой энергии, яркой, как солнечный протуберанец.
Люция сбило с ног, и он с силой влетел в один из высоких кристаллических шпилей на краю комплекса. Спину прострелила боль, он почувствовал вкус крови и оскалился.
То, что дальше произошло, он видел ясно, несмотря на туман из дыма и боли.
Фулгрим стоял перед боевой машиной, отбросив пистолет и опустив меч. Автоматические заряжатели титана затрещали, посылая снаряды из задних подающих карманов, и казенники захлопнулись, получив новый боезапас. Фулгрим поднял свободную руку к боевой машине, будто требуя, чтобы та остановилась.
Люций засмеялся, так нелеп был этот жест.
Но Фулгрим не просто бросал ей вызов.
Фениксийца окружила аура мерцающего, дымчатого света, по которому пробегали едва заметные молнии. Фулгрим сжал руку в кулак и повернул ее, будто разрывал невидимые веревки.
Боевая машина перестала неистовствовать, кокпит затрясся, а руки-орудия начали конвульсивно подергиваться, будто у титана случился немыслимый приступ. Фулгрим продолжал тянуть и поворачивать воздух. Боевой рог издал жалобный и испуганный вой, панели кокпита раскололись, усыпав землю стеклянными слезами, и машина с шипением опустилась на согнутые ноги.
Люций со страхом и интересом смотрел, как из кокпита полезли вспученные комья текучей плоти, раздувающиеся и пульсирующие, словно какое-то причудливое живое существо. Растущая желеобразная масса мяса заволокла голову мастифа и закапала с бронированного корпуса сырыми розовыми каплями.
Люций поднялся на ноги, трепеща от благоговения и ужаса, внушенного сценой гибели боевой машины. Из разбитого корпуса текла амниотическая жидкость, а из каждого отверстия лезла чудовищная масса разбухшей плоти, в которую превратился смертный экипаж. Вонь ужасала, и Люций глубоко вдохнул, наслаждаясь запахом сожженного мяса, уже начинающего гнить.
Он подошел к Фулгриму, подбиравшему упавший пистолет.
– Что это было? – спросил Люций.
Фулгрим перевел на него взгляд пустых черных глаз и сказал:
– Небольшой трюк, которому я научился у сил, что меня питают. Пустячная забава, не более.
Люций поднял руку и поймал в ладонь комок блестящей плоти. Он был мокрый, с черными некрозными прожилками, по-забавному склизкий, и он сгнивал прямо на глазах.
– А я могу этому научиться?
Фулгрим засмеялся и, склонившись к Люцию, положил изящную руку на его наплечник. Дыхание примарха было приторно-сладким, словно дым в храмовых курильницах или сахар, а от кожи шел жар, как от опасно перегретой плазменной катушки. Фулгрим заглянул глубоко в его глаза, будто пытался найти в них что-то – что, по его подозрениям, должно было там быть. Люций ощутил силу его взгляда и понял, что существо, не дававшее ему отвести глаза, было куда древнее и злокозненнее, чем у него когда-либо получится стать.
– Может быть, мечник, – весело сказал Фулгрим, кивнув. – Думаю, у тебя есть все шансы однажды стать таким же, как я.
Фулгрим поднял взгляд вверх, милосердно разорвав с ним зрительный контакт, когда звуки битвы начали утихать.
– О, бой закончился, – сказал примарх. – Хорошо. Он уже начинал мне надоедать.
И, больше ничего не сказав, Фулгрим направился в лес зеркальных шпилей, оставив Люция наедине с мертвой боевой машиной.
5
Здесь было красиво, по-настоящему красиво, и при виде этого великолепия на глаза наворачивались слезы.
Его воины воспринимали кристаллический лес только как набор физических свойств, но Фулгрим видел в этом месте истину – истину, которая могла открыться лишь его глазам.
Шпили из сверкающих, блестящих, как бриллианты, кристаллов вздымались над черной землей гигантскими свидетельствами того, как бесконечно разнообразны бывают геологические чудеса галактики. Все они были не меньше ста метров высотой, и даже самые тонкие превышали десять метров в диаметре. Сотни тысяч этих шпилей уходили вдаль, укутывая все вокруг своим величественным сиянием.
Они росли из земли толстыми пучками, напоминая лес из органической растительности, прорезанный извилистыми тропами. Фулгрим постоянно менял направление, бездумно углубляясь все дальше и дальше в дебри мерцающих кристаллов. Так легко было затеряться в этой изменчивой чаще зеркал, и Фулгриму вспомнилась апокрифическая история о воине, заточенном в невидимом лабиринте на Эрицийском нагорье Венеры. [1]
Тот глупец погиб, когда выход был на расстоянии вытянутой руки, но Фулгрим подобной судьбы не страшился. Он мог с закрытыми глазами пройти весь обратный путь из этих неприступных стеклянных дебрей.
Он вытянул руку и провел пальцами по гладким граням шпилей, наслаждаясь крошечными дефектами на кремниевой поверхности. Одни были белесоватыми и полупрозрачными, другие – мутными, но у большинства поверхность сияла, как зеркало, – будто наконечники копий от многомиллионной армии гигантов, погребенной в черных песках.
Фулгрим слышал об армии, погребенной в древние времена на Терре, – глиняной армии призраков, призванной защищать умирающего императора, который боялся возмездия со стороны бессчетных душ, отправленных им в загробный мир во время завоевательных войн. Здесь было иначе, но его позабавила тщеславная мысль о том, что под ногами у него находится захоронение огромной армии колоссов, и он небрежно отдал честь павшим воинам, по чьим могилам прогуливался.
Битва за базу Механикум немного развлекла его, но слишком быстро закончилась. Сражаться с противником, который не впадал в отчаяние при близости смерти и не молил о пощаде, было скучно и безрадостно, и Фулгрима разочаровала неспособность Механикум оценить восторги, даруемые им примархом и его воинами. Он, разумеется, знал, чего от них ожидать, но его раздражало, как эгоистично противники лишили его удовольствия услышать их крики и проникнуться экстазом их смерти.
Он помрачнел, вспомнив о столь грубом поведении врагов, и инстинктивно потянулся к лаэранскому клинку, но тут же вспомнил, что отдал его мечнику Люцию. Мысль о том, что Люций может стать таким же, как он, его рассмешила. Люций, конечно, был польщен, но ни один смертный не смог бы достичь того, чего он достиг, стать тем, кем он стал.
Фулгрим остановился и медленно повернулся вокруг своей оси, впитывая истинную красоту, его окружавшую. Не шедевры планетной скульптуры – это просто случайный результат геологического процесса. Не переливающиеся небеса – это странное последствие загрязнения и химических соединений в атмосфере. Нет, истинную красоту этого места порождала не случайность, не слепая вероятность – она была необыкновенным, чудесным продуктом замысла, воли и стремления к совершенству.
Его окружали собственные отражения – самое невероятное совершенство, облеченное в плоть.
Наугад переходя с тропы на тропу, Фулгрим наблюдал за своими копиями, растущими и уменьшающимися, и восхищался изящными чертами, благородным выражением и царственной осанкой. Кто мог сравниться с ним в совершенстве? Хорус? Едва ли. Гиллиман? Этот даже близко не стоял.
Только Сангвиний был подобен ему красотой, но даже в его дивном облике был изъян. Разве могло совершенное создание быть проклято мутацией, превращавшей его в реликт древнего мифа?
«А Феррус Манус... Что же он?»
– Он мертв! – проревел Фулгрим, и странное эхо разнеслось по густому кристаллическому лесу.
«МЕРТВ, МЕРТв, МЕРтв, МЕртв, Мертв, мертв...»
Фулгрим резко развернулся, когда искаженные крики зазвенели вокруг, как обвинения. Охваченный гневом, он выхватил меч и ударил ближайший шпиль. Бритвенно острые стеклокристаллические осколки разлетелись в стороны. Он бил по своему отражению, словно взывая к ответу, разламывал микрорешетчатый материал мощными, ужасающе сильными ударами.
Грубо вытесанный меч рубил, как топор дровосека, но небрежное обращение лезвию не вредило. Его создал разум, превосходящий человеческий, и за грубым видом скрывалась сила, способная уничтожать богов.
– Все мои братья по-своему грозны и величественны! – кричал Фулгрим, сопровождая каждое слово рубящим ударом. – Но в каждом есть изъян, на каждом лежит вечное проклятие, которое однажды его погубит. Лишь я один совершенен. Лишь я один был закален лишениями и предательством!
Наконец он растратил свой капризный гнев и отошел от испорченного шпиля. В ярости он разрубил его поперек до самой середины, и теперь шпиль качался, потеряв устойчивость. Стекло треснуло со звуком оружейного выстрела, шпиль переломился в том месте, где Фулгрим рубил его, и упал, как поваленное дерево, разбивая все на пути к земле и поднимая ураган из осколков. Падая, он задел еще с десяток других шпилей, и целый участок кристаллического леса рухнул на твердый грунт с оглушительным грохотом расколотого стекла.
Фулгрима окружил резкий гром падающих шпилей – все нарастающее и нарастающее крещендо музыкального разрушения, и боль от этих режущих звуков, пронзающих мозг, несла с собой настоящее удовольствие. Его воины должны были услышать шум, но даже если бы они явились сюда, их привел бы не страх за его жизнь, а желание окунуться в восхитительный грохот этого бессмысленного уничтожения. Он задумался, сколько времени шпилям потребовалось, чтобы достичь таких колоссальных размеров. Тысячи лет, а может, и больше.
– Растут тысячелетия, а уничтожаются за мгновения [2], – сказал он, не скрывая беспричинной злобы. – В этом есть определенный урок.
Эхо от падения шпилей умерло, и Фулгрим прислушался, пытаясь различить в лесу чужие голоса. Действительно ли кто-то произнес имя его мертвого брата, или ему послышалось? Он выставил перед собой меч и посмотрел на блестящую кремневую поверхность, а в сознании все маячила назойливая мысль, никак не желавшая оформиться.
Он и раньше слышал бесплотный голос, не правда ли?
Тот рассказывал ему ужасные, тайные вещи. Невыносимые вещи.
Фулгрим закрыл глаза и прижал руку к виску, пытаясь вспомнить.
«Я здесь, брат, я всегда буду здесь».
Фулгрим удивленно поднял взгляд, и чувство, от которого он давно отказался на своем пути к величию, пронзило его грудь, как копье, направленное рукой самого Хана.
Глубоко в лесу зеркальных шпилей стоял могучий воин в побитых доспехах цвета обугленного оникса. Высеченное из гранита лицо было обращено к Фулгриму, и примарх вскрикнул, увидев бездонную печаль в серебре его глаз.
– Нет! – прошептал Фулгрим. – Это невозможно...
Фулгрим стал пробираться через острые зубья стекла, выступавшие из земли, в спешке раня об них руки и царапая гладкие пластины брони. Он шатался, как пьяный, разбивал появлявшиеся на пути куски кристаллов и упавшие осколки шпилей, которые когда-то поднимались до небес.
– Что ты такое? – закричал он, и эхо его крика заметалось вокруг, превратившись в хор гневных, требующих ответа голосов. Но он упустил воина в черном из вида, пока бежал, углубляясь в зеркальный лабиринт и думая лишь о том, как сорвать маску с того, кто нарушил его уединение.
Всякий раз, когда он поднимал взгляд, перед ним было лишь собственное отчаянное отражение, в котором его орлиные черты искажались и уродовались резко наклоненными гранями шпилей. Вид собственного лица, так обезображенного из-за причуд зеркальной геометрии, привел его в ярость, и он резко остановился на неровной поляне.
Он развернулся на пятках, безмолвно спрашивая свои отражения, посмеют ли они показать что-то меньшее, чем его истинную красоту.
Больше сотни Фулгримов смотрело на него с тем же гневным выражением, но только сейчас он, неподвижный и взбешенный, заметил в глубине этих чернейших глаз боль и ужас.
– Где ты? – резко спросил Фулгрим.
«Я здесь», – ответило ему одно отражение.
«Там, где ты бросил меня и оставил гнить», – произнесло другое.
Гнев Фулгрима испарился, как капля воды, упавшая на капот работающего двигателя. Это было ново, это было неожиданно, а значит, этим стоило насладиться. Он медленно обошел поляну, смотря в глаза одного отражения и одновременно пытаясь следить за другими. Были ли они его настоящими отражениями, или обладали собственной волей и просто копировали его движения? Он не знал, как такое было возможно, но это его позабавило и отвлекло.
– Кто ты? – спросил он.
«Ты знаешь, кто я. Ты украл то, что по праву принадлежит мне».
– Нет, – ответил Фулгрим. – Оно всегда было моим.
«Неправда, ты лишь позаимствовал плоть, в которой ходишь. Она всегда была моей и всегда моей будет».
Фулгрим улыбнулся, узнав разум, скрывавшийся за мириадами голосов и отражений в разбитых стеклах. Он этого ожидал, и теперь, когда ему было известно, с кем он разговаривает, его охватило радостное чувство братской общности. Фулгрим убрал анафем в ножны, убедившись, что не меч был источником голосов.
– Я гадал, когда тебе удастся протянуть руки за пределы своей золотой тюрьмы, - сказал он. - У тебя ушло больше времени, чем я предполагал.
Его отражение улыбнулось в ответ.
«Я никогда раньше не был в заточении. Мне понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть. Сложно забыть свободу, которой я до этого обладал».
Фулгрим засмеялся, услышав в голосе отражения недовольство.
– Так зачем показывать мне Ферруса Мануса? – спросил он мириады отражений.
«Разве есть лучшее зеркало, чем лицо старого друга? Показать нам нашу истинную сущность могут лишь те, кого мы любим».
– Чтобы вызвать чувство вины? - спросил Фулгрим. - Ты думаешь, что можешь вынудить меня отдать тебе это тело из стыда?
«Из стыда? Нет, мы с тобой давно уже переросли стыд».
– Тогда зачем нужен Горгон? – не успокаивался Фулгрим. – Это тело мое, и нет во вселенной такой силы, которая заставила бы меня от него отказаться.
«Но мы могли бы так многого достичь, если бы я снова стал им управлять».
– Я достигну большего, – пообещал ему Фулгрим.
«Продолжай себя в этом убеждать, – засмеялось его отражение. – Ты не можешь знать того, что знаю я».
– Я знаю все, что знал ты, – ответил Фулгрим, поднимая руки и разминая пальцы, как виртуозный пианист, готовящийся сыграть. – Видел бы ты, на что я теперь способен.
«Дешевые фокусы», – фыркнуло отражение, метнув взгляд на другую зеркальную копию.
– Из себя плохой лжец, – рассмеялся Фулгрим. – Но чего еще от тебя ожидать? Когда-то ты пленял слабых духом обещаниями силы, но на самом деле предлагал лишь рабство.
«Все живое находится в рабстве у чего-нибудь, будь то стремление к богатству и власти или жажда обладать и испытывать новое. Или потребность быть частью чего-то большего...»
– Я ничей не раб, – сказал Фулгрим, и его отражения расхохотались, презрительным звоном смеха раня его сильнее, чем любое оружие.
«Ты теперь раб даже в большей степени, чем когда-либо раньше, – прошипело отражение. – Ты живешь в плену тела из плоти и кости, ты застрял в сломанной машине, которая перемелет тебя в пыль. Ты не можешь знать, что такое истинная свобода, пока не отдался невообразимой силе – пока не познал силу бога. Выпусти меня, и я покажу тебе, как мы можем вместе вознестись».
Фулгрим покачал головой:
– Гораздо лучше овладеть этой силой и подчинить ее своей воле.
«Мы с тобой можем испытать такие чудеса», – произнесло отражение слева.
«Вселенную ощущений», – сказало другое.
«Она будет наша», – добавило третье.
– Можешь говорить что хочешь, – ответил Фулгрим. – Тебе нечего мне предложить.
«Ты так думаешь? Значит, ты ничего не знаешь о теле, которое считаешь своим».
– Твои игры начинают мне надоедать, – сказал Фулгрим, отворачиваясь, но перед глазами только встали новые отражения. – Ты останешься там, где был, и заговаривать со мной больше не будешь.
«Прошу, – вдруг покаянно взмолилось отражение. – Я не могу так существовать. Здесь холодно и темно. Тьма все ближе, и я боюсь, что скоро меня не станет».
Фулгрим приблизил лицо к зеркальной поверхности кристаллической колонны и ухмыльнулся.
– Не бойся, брат, – сказал он. – Ты будешь со мной еще очень, очень долго.
[1] см. «В стенах Эрикса», Г. Лавкрфат.
[2] Измененное «Millennia to сreate, moments to destroy», Джим Моррис, о коралловых рифах.
6
Флот еще шесть дней оставался на орбите Призматики, собирая кристаллические колонны со складов Механикум и заполняя сияющим грузом отсеки пяти захваченных навалочных судов. Фулгрим потребовал, чтобы с планеты забрали все осколки, все крупицы и все шпили, но не объяснил, как собирался использовать эти минералы.
В эти шесть дней Дети Императора развлекались с немногочисленными пленными, используя их неописуемо ужасными способами, после чего передавая следующей роте. Люций в одиночку сражался на последних остававшихся участках кристаллических лесов, кружась в дуэли с собственным отражением и на каждый его выпад, взмах и отбив отвечая великолепной атакой. Он был так близок к понятию совершенного мечника, насколько это вообще было возможно, и демонстрировал идеальный баланс между атакой и защитой, безупречную работу ногами и патологическую потребность испытывать боль.
В этом состояла слабость большинства его противников: они боялись боли.
У Люция же этого страха не было, и только тот воин, кто был способен на самую неистовую ярость, смог бы что-либо ему противопоставить. Такой воин не страшился за свою жизнь и прекращал сражаться, только когда погибал. Люций вспомнил капитана из Пожирателей Миров на Исстване-III, который прорубал себе путь через собственных солдат, как одержимый.
Бой с таким воином стал бы настоящим испытанием его способностей; ему нравилось считать себя непобедимым, но он понимал, что это не так. Непобедимых воинов не существовало, всегда найдется кто-то быстрее, или сильнее, или удачливее, но Люций не боялся встречи с таким противником – он ее жаждал.
Его отражение наступало и отдалялось вместе с ним, отвечая движением на движение, и как бы быстро он ни атаковал, как бы молниеносно ни совершал выпады, ему не удавалось пробить оборону зеркального себя. Его мечи двигались быстрее и быстрее, каждый последующий прием был стремительнее предыдущего. Он двигался со скоростью, недоступной ни одному существующему мечнику, клинки вырисовывали вокруг него мерцающую серебристую сферу, и было бы безумием прерывать этот филигранный танец мечей.
– Ты так увлечен собой, мечник, – сказал Юлий Кесорон, выходя из-за неровно обломанного кристалла. – Хочешь, чтобы тебя здесь оставили?
Люций споткнулся, и его мечи столкнулись с гулким звоном. Терранский клинок протестующе заскрежетал, когда лезвие лаэранского оставило на нем зарубку с торжественным визгом металла, режущего металл. Люций обратил падение в разворот, оба его меча со свистом рассекли воздух и коснулись горла первого капитана.
– Не очень умно с вашей стороны.
Кесорон оттолкнул мечи и засмеялся, булькая пеной в горле. Он повернулся к Люцию спиной и показал на разрушенное здание Механикум, где последние контейнеровозы, забитые грузом, покидали изрытую взрывами каменную поверхность планеты.
От кристаллических лесов почти ничего не осталось, горизонт был оголен, а разоренные склады снесены. Вопящие солдаты Мария Вайросеана распыляли на атомы то немногое, что еще стояло, с помощью нестройных порывов сливающихся звуковых волн. Скоро это место будет стерто с лица земли, будто его никогда и не существовало.
Люций энергично зашагал вслед за первым капитаном.
– Думаешь, я не убью тебя, Кесорон? – спросил он, разозленный, что его не восприняли как угрозу.
– Ты змей, Люций, но даже ты не настолько глуп.
Люцию хотелось огрызнуться в ответ, но он понимал, что с Кесороном не следует ссориться. Первый капитан оставит его тут не раздумывая, и не почувствует ничего.
– Примарх основательно ко всему этому подошел, – сказал Люций, вкладывая мечи в ножны и смотря, как последний контейнеровоз поднимается на подушке дрожащего воздуха, разогретого работающими на пределе двигателями. – Что ему нужно?
– Кристаллы?
– Ну конечно, кристаллы, – отозвался Люций.
Кесорон пожал плечами: его этот вопрос не волновал.
– Примарх захотел их, и мы их захватили. Мне все равно, что он собирается с ними делать.
– Правда? – спросил Люций. – И вы еще говорите, что я увлечен собой.
– А тебя это беспокоит? – парировал Кесорон. – Не думаю. Твой мир начинается и кончается тобой, Люций. А в моем важно лишь то, что позволит мне испытать величайшее блаженство и низменнейший восторг. Мы существуем, чтобы до предела чувств удовлетворять все свои желания, но этим служим силе, которая могущественнее любого из нас, могущественнее даже примарха.
– Даже Фениксийца или магистра войны?
– Они несравненные создания, но даже они – лишь сосуды для силы столь древней, что мы не можем себе и вообразить.
– Откуда вы знаете? – спросил Люций.
– Со страданием приходит мудрость, мечник, – ответил Кесорон. – Исстван-V мне это показал. Мы возносим свои молитвы, отдаваясь в забытье боли и экстаз агонии. Ты не изведал истинного страдания, потому что ты слаб. Ты до сих пор один из тех, кем мы были, а не из тех, кем мы стали.
Люций рассвирепел в ответ на такое пренебрежение к его мукам и талантам, но промолчал, желая услышать, что еще скажет первый капитан.
– Лорд Фулгрим познал величайшую боль, какую можно познать в этой галактике, и ему известны самые потаенные ее истины, – продолжил Кесорон, и Люций заметил, что тон его скрипучего голоса изменился: в нем появилась дрожь сомнения. – После... Исствана он показал мне такое, о чем я и помыслить не мог: боль и чудо, восторг и отчаяние.
Возможно ли это?
Неужели Кесорон подозревал то же, что и он?
Люций рискнул покоситься на Кесорона, но голова воина была так изуродована и деформирована, что невозможно было что-либо понять из выражения его лица. Их волной окатил оглушительный грохот распыленного на молекулы металла: последний склад обрушился, а воины, уничтожившие его, завопили от пронзительного удовольствия, вызванного невыносимым шумом.
Последняя «Грозовая птица» прошла через полосы радужных небес, и к воинам зашагал Марий Вайросеан. Люций хотел почувствовать красоту неба, восхититься яркими красками и мягкими переходами невиданных оттенков.
Но внутри было пусто, осталось только желание убраться с этой планеты. Здесь больше не было ничего, что могло его привлечь, и он испытал приступ гнева, поняв, что лишен источников эмоций.
– Итак, все кончено, – сказал Марий; из-за чрезмерно растянутых челюстей его слова едва можно было разобрать. Люцию захотелось вогнать мечи в грудь Вайросеана, только бы почувствовать что-нибудь. Он с трудом подавил этот порыв.
– Я ненавижу это место, – сказал Люций, жаждая поскорее улететь с этого унылого мирка.
– Я уже о нем забыл, – отозвался Кесорон.
7
Сон все не уходил со рваных границ сознания, наполняя его неотступными страхами и гнетущими подозрениями, которые тяготили, как альбатрос, повешенный на шею. [1] В коридорах «Гордости Императора» никогда не наступала тишина, эхо криков плыло из одного конца корабля в другой, сливаясь в бесконечный хор извращенных прихотей. Большинство криков были полны боли, но во многих звучало наслаждение.
По мере того, как мимо проходили серые дни, отличить одно от другого становилось все сложнее.
Но эта часть корабля пустовала, о ней не вспоминали, как не вспоминают о грязной тайне в надежде, что она исчезнет, если достаточно долго делать вид, будто ее нет. В просторном коридоре не было ни света, ни музыки, ни криков, ни танцующих бессвязные мученические паваны, ни кровавых подношений на алтарь пыточного мастерства. Это место словно перестало существовать, словно отделилось от остального корабля
Повернув за угол, Люций оказался перед огромными арочными дверями, ведущими в «Ла Фениче», и тут иллюзия запустения рассеялась. Перед дверями стояло шесть воинов, облаченных в исцарапанные доспехи синего, розового и пурпурного цветов. Изорванные златотканые плащи ассиметричными каскадами спадали с шипов, вставленных в наплечники, а на их нагрудниках алые хищные птицы восставали из рубинового пламени.
Все шестеро были вооружены алебардами с золотыми клинками, на лезвиях которых слабо мерцал убийственный дымчатый свет. Воин в маске из плоти шагнул к Люцию и развернул алебарду лезвием к мечнику. Люций наблюдал за его движениями: спокойными, уверенными и плавными. Воин не боялся Люция, а значит, был на редкость глуп.
– Гвардия Феникса, – довольно ухмыльнулся Люций.
– Попытка войти в «Ла Фениче» карается смертью, – произнес воин приглушенным кожаной маской голосом.
– Да, я слышал, – любезно ответил Люций. – Как ты думаешь, почему?
Гвардеец Феникса проигнорировал вопрос и сказал:
– Разворачивайся и уходи, мечник. Уйдешь – и останешься жив.
Искренность, если не сказать – серьезность, этой угрозы заставила Люция весело рассмеяться.
– Правда? – спросил он, положив ладони на навершия мечей. – Думаешь, что ты со своими друзьями сможешь мне помешать туда войти?
Остальные гвардейцы Феникса рассредоточились и встали перед ним убийственным стальным полукругом.
– Уходи – и останешься жив, – произнес воин позади него.
– Да, вы уже сказали, но есть одна проблема, – ответил Люций. – Я хочу войти, и вы меня не остановите. Поверьте, я с огромным удовольствием сражусь с вами шестерыми одновременно, но мне кажется, что это будет несколько односторонний опыт.
По глазам гвардейца Люций понял, что тот сейчас нападет.
Покрытая молниями углеродистая сталь рассекла воздух, но Люция на прежнем месте уже не было.
Он наклонился, пропуская над головой алебарду, и выхватил терранский меч. Кончик лезвия вонзился в пах воина в маске, а когда Люций резко дернул клинок, тот прошел через бедро и отсек ногу. Из раны хлынула кровь, и воин упал, вскрикнув от боли и удивления одновременно. Бросившись в сторону, Люций рубанул лаэранским мечом по боку противника, оказавшегося справа. Броня легко поддалась металлу чужаков, и кишки гвардейца вывалились из раны, будто сами стремились покинуть тело.
Улучшенные органы каждое ощущение делали ярче, и все вокруг стало таким живым, что Люций рассмеялся. Темнота обрела множество оттенков, кровь запахла опьяняющей смесью искусственных реагентов и биологических соединений, мягкое свечение от сияющего оружия стало походить на ослепительный салют, ознаменовавший финал Великого Триумфа. Его дыхание казалось невозможно громким, кровь гремела, как вода в стремнине, а противники замедлились, словно решили не торопиться с наступлением.
Алебарда задела его плечо, и Люций сделал кувырок, уходя с траектории удара. Он вскочил на ноги, поставил блок на возвратный удар и, поменяв хват меча, пробил им шлем противника. Гвардеец Феникса молча упал, а Люций между тем увернулся от широкого, косящего взмаха, способного рассечь его от головы до паха.
Он молниеносно контратаковал, первый ударом выбив у воина оружие, а вторым перерезав ему горло. Третьим он почти успел отделить от тела голову, но бросился на пол, когда другая шипастая алебарда устремилась к его спине, между лопатками. Он поднялся на колени, выставляя перед собой перекрещенные мечи, чтобы принять на них нисходящую атаку. Удар был полон невероятной силы, значительно превышающей его собственную, но Люций развернул мечи и направил лезвие в пол, и сталь завизжала, когда потрескивающий клинок врезался в палубный настил. Люций обрушил на голову гвардейца кулак, заставив линзу треснуть, а противника – замычать из-под шлема от боли. Воин уронил алебарду и выставил предплечье, блокируя ошеломляюще быстрый выпад к шее.
Отрезав его руку у локтя, Люций с разворота вогнал лаэранский меч в грудь противника. Жертва схватила Люция за запястье и упала с булькающим криком, увлекая его за собой, но Люций не стал бороться с инерцией падения. Когда последний гвардеец Феникса замахнулся на него алебардой, он развернулся в воздухе и легко приземлился на носки, оставив меч в груди гвардейца.
Теперь вооруженный лишь терранским мечом, Люций театрально принял боевую стойку, высоко поднял меч и стал описывать кончиком небольшие круги. Это был старый трюк, но гвардеец Феникса проницательностью не отличался, и Люций видел, что его противник следовал взглядом за движением клинка. Люций прыгнул, а когда воин осознал свою ошибку, сделал ложный выпад вправо. Тот повел рукой, неумело ставя блок, но Люций уже изменил угол выпада. Уральские кланы Тераватт выковали его меч в дни еще до Объединения, и клинок никогда его не подводил.
До этого момента.
Кончик меча наткнулся на обломок орлиного крыла на пластроне воина, и сила удара передалась по всему мечу. Он переломился, бритвенно острый кончик по дуге отлетел в Люция, и даже его сверхъестественно быстрой реакции оказалось недостаточно – осколок пропорол глубокую борозду от левого виска до нижней челюсти.
Боль была так резка, так блаженно приятна и так восхитительно неожиданна, что едва не стоила ему жизни, когда он остановился, чтобы насладиться ощущением.
Получив отсрочку от смерти, гвардеец Феникса сделал в сторону Люция выпад алебардой. Кончик лезвия скользнул по металлу доспеха, но добраться до кожи ему не удалось. Люций разрубил рукоять оружия сломанным мечом и погрозил воину пальцем.
– Это было очень безрассудно с моей стороны, – сказал он, вздохнув с едва заметным смущением. – Только представь: погибнуть от руки ротозея вроде тебя. Я бы этого не пережил.
Воин не успел ответить или пожалеть, что лишился оружия: Люций крутанулся, пересек границу его обороны и провел восхитительно точный обезглавливающий удар, отправив голову гвардейца катиться через зал.
Он наклонился за лаэранским мечом, пошевелил им из стороны в сторону, чтобы ослабить хватку плоти. Меч выскользнул из тела, и он сорвал маску из высушенной кожи с лица первого воина, желая узнать, как выглядел тот, кто решил, что может сразиться с ним и остаться в живых.
Лицо было ничем не примечательное, но в этих невыразительных чертах Люцию привиделась насмешливая ухмылка Локена. Хорошее настроение вмиг пропало, он встал, скривившись от горьких воспоминаний. Наступил ногой на лицо воина раз – и кость сломалась. Два – и треснул череп. Три – и лицо провалилось, образовав влажный кратер, наполненный кашицей мозга и черепными осколками.
Люций, теперь уже разозленный, вытер меч о высушенный кусок кожи, но настроение опять переменилось, как ветер, когда он поднял освежеванное лицо перед собой, словно актер на сцене.
– Поверь, тебе так только лучше, – сказал он, кивая на воина с проломленным черепом, с которого снял кожаную маску. – Он был на редкость уродлив.
Он отбросил лицо в сторону и направился к арочным дверям, ведущим в «Ла Фениче».
Раньше их покрывали золотые и серебряные листья, теперь же украшений почти не осталось. Отчаявшиеся безумцы до костей стерли руки, пытаясь проникнуть внутрь и вновь пережить прекрасные ужасы «Маравильи». Люций заметил застрявшие в дереве обломки ногтей и выдернул несколько, с наслаждением представляя, что чувствовали люди, когда ногти срывало с ложа.
– Чего ты пытаешься добиться? – спросил он себя.
Ответа у него не было, но за дни, прошедшие после отлета легиона с Призматики, его жажда, его потребность увидеть скрытое за запертыми дверями стала лишь сильнее. Он грубейшим образом нарушал приказ, однако преступность затеи сама по себе была достаточной причиной эту затею воплотить.
После убийства гвардейцев Феникса отступать все равно было бессмысленно.
Люций распахнул двери и вошел в покинутый театр.
[1] см. «Сказание о старом мореходе», С. Кольридж.
8
Тьма приникла к нему, как возлюбленная в ночи, и он глубоко вдохнул застоялый воздух. В нем пахло металлом и плотью, пылью и древностью. Раньше «Ла Фениче» был волшебным местом, но теперь, когда из театра ушла жизнь, от него осталась лишь пустая оболочка, не дарившая и крупицы радости. Люций отчаянно пытался вспомнить пленительную анархию, которой здесь предавались, акты чистой жестокости и безумные соития в партере и ложах, прославлявшие грубую чувственность.
Воспоминания о тех событиях были тусклыми и серыми; он хотел помнить великий момент пробуждения, но от него осталось лишь смолкающее эхо.
Разбитую сцену покрывали пятна крови, стены были измазаны дурно пахнущими жидкостями и завешаны лозами органов, которым надлежало быть в человеческих телах. Из позолоченных клеток исчезли певчие птицы, пропали золотые рампы, и, вопреки его ожиданиям, нигде не было видно разлагающихся тел.
Кто мог их забрать и зачем?
Возникло несколько предположений: для удовольствия, для препарирования, для коллекции трофеев – но все они казались сомнительными. Люций не видел полос крови от утащенных трупов, только пятнистые контуры там, где тела раньше лежали, словно что-то в этом зале забрало составлявшую их материю – что-то, способное получать силу от обосновавшейся здесь смерти.
Люций прошел через гулкий зал покинутого театра: ноги неотвратимо несли его к центру партера. Над ним было Гнездо Феникса, и он осторожно посмотрел наверх, похолодев в ожидании угрозы. Ему казалось, что на него смотрят злобные глаза, хотя все органы чувств говорили, что он здесь один.
Его взгляд привлекло единственное освещенное место в «Ла Фениче», и Люций без удивления отметил, что портрет лорда Фулгрима совсем не походил на великолепное произведение искусства, украсившее момент их перерождения. Как и в его снах, портрет был скучен и посредственен. Смертным, с их примитивными вкусами, он показался бы шедевром, но воин Детей Императора видел, что в этой работе не было жизни.
Во всяком случае, так Люций думал, пока не посмотрел в глаза нарисованному Фулгриму.
Он словно заглянул в бездну, и она посмотрела на него в ответ. Люций увидел в глазах ужасающее страдание, бесконечную агонию и муку, и у него перехватило дыхание. Он открыл рот, беззвучно выдыхая в наслаждении, которое доставляла мысль о столь восхитительной боли. Что за существо могло испытывать такое отчаяние? Ни смертный, ни Астартес не могли опуститься до таких немыслимых глубин горя.
Лишь одно создание было способно познать подобный ужас.
Люций посмотрел в глаза на портрете и в то же мгновение понял, что за существо было заключено в этой золотой тюрьме.
– Фулгрим, – выдохнул он. – Мой повелитель...
Глаза умоляли его, и восторженное знание, которым он теперь обладал, заставило его содрогнуться всем телом. Сердце яростно билось в груди, голова закружилась, и он покачнулся, пытаясь осознать масштаб обмана, в который ввели Детей Императора.
Пошатываясь от смятения, возбужденный, едва воспринимающий мир вокруг, Люций направился к выходу из «Ла Фениче». Колоссальное знание наполняло его, как сверхновая, сияние которой добиралось до самых конечностей, заставляя их дрожать – словно по венам пустили ток. Он миновал двери театра, качаясь как пьяный, и упал на колени, пытаясь хоть частично вернуть себе контроль над телом. Люций заморгал, чтобы избавиться от беспорядочных пятен света и цвета, застилавших глаза, и мир стал реальнее, плотнее, полнее волнующими возможностями.
Никто во всей галактике не знал того, что знал он.
Но даже Люций понимал, что не сможет действовать в одиночку.
Ему потребуется помощь, как бы ни было унизительно это признавать.
– Тайный орден, – прошептал он. – Я созову Братство Феникса.
9
Они собрались на верхних уровнях «Гордости Императора», на наблюдательной палубе, где перед смертными, осмелившимися пересечь невообразимые бездны космоса, открывалась огромная звездная панорама. Братство Феникса не созывалось со времен Исствана: члены его были слишком заняты собственными удовольствиями, чтобы их волновали дела других.
Но это не значило, что наблюдательную палубу не использовали. В анфиладе ее бесконечных залов искали просветления напившиеся губительно галлюциногенных коктейлей, смешанных апотекарием Фабием, и многие утоляли здесь новообретенные плотские желания, устраивая пиры для чужой плоти и мечей. Забытые тела и горы разбитого стекла усеивали палубу, а из-под наваленных в кучу тряпок и кожаных фиксаторов время от времени доносились стоны.
Когда-то это место предназначалось для спокойных раздумий, и воин здесь мог предаться размышлениям о способах стать ближе к совершенству, но теперь оно стало ареной порока, бездонного ужаса и потворств, не сдерживаемых никакими моральными нормами. Никто больше не приходил сюда для того, чтобы стать лучше, а речи о великих идеалах и дебаты, звучавшие раньше в этих стенах, превратились в забытое эхо; их не помнили, но над ними с готовностью насмехались. Если и было на «Гордости Императора» одно место, способное отразить всю глубину падения Детей Императора, оно находилось здесь.
Они прибывали по одному и по двое, достаточно заинтригованные приглашением Люция, чтобы явиться в надежде на развлечение, которое сумеет их ненадолго позабавить. Сам факт, что именно он, столь равнодушный к понятиям братства, их вызвал, был веским основанием прийти, и к тому моменту, когда Люций решил, что пора начинать, перед ним стояло двадцать воинов.
Больше, чем он ожидал.
Пришел первый капитан Кесорон, Марий Вайросеан, и, что самое главное (если подозрения Люция были верны), – апотекарий Фабий. Калимос, Даймон и Крисандр были тут, как и Руэн из Двадцать первой. Пришли также Гелитон и Абранкс, и еще некоторые, чьи имена Люций не потрудился запомнить. Они смотрели на него немного насмешливо, ибо в ордене к нему всегда относились с легким пренебрежением. Люций с трудом держал себя в руках.
– Зачем ты нас сюда созвал? – грубо спросил Калимос, чье мрачное лицо было изукрашено кольцами и зазубренными крючками. – Для нас это братство теперь мало значит.
– Вы должны кое-что услышать, – сказал Люций, не сводя взгляда с первого капитана Кесорона.
– Что услышать? – проревел Вайросеан, не осознающий, как громко говорит.
– Фулгрим – не тот, за кого себя выдает, – сказал Люций, понимая, что привлекать их интерес следует сразу. – Он самозванец.
Крисандр засмеялся так сильно, что на его лице треснула кожа. Остальные к нему присоединились, но гнев Люция ослабил тот факт, что Кесорон и Фабий заинтересованно сощурились.
– Тебя следует убить за эти слова, – прорычал Даймон, снимая с заплечного ремня тяжелый, покрытый шипами молот. Один удар этого чудовищного оружия мог раздавить любого, кому не повезет оказаться атакуемым.
Руэн зашел Люцию за спину, и тот услышал, как прошелестел кинжал ассасина, вынимаемый из ножен. Он почувствовал горький запах ядов на клинке и облизнул губы.
– Знаю, это звучит нелепо, – сказал Люций. Его жизнь висела на волоске. Одно дело – победить несколько гвардейцев Феникса, другое – вступить в схватку с двадцатью капитанами легиона. Он ухмыльнулся при мысли о таком бое, хотя и знал, что не пережил бы его.
– Пусть говорит, – прошипел Фабий. – Я хочу знать, что мечник скажет. Мне интересно, что привело его к этому выводу.
– Да, пусть щенок говорит, – сказал Кесорон, вставая рядом с Даймоном.
Марий Вайросеан снял с креплений звуковую пушку и провел изрезанными пальцами по гармоническим катушкам, отчего наблюдательную палубу наполнила пробирающая до костей басовая нота, намекающая на разрушительные возможности оружия. Прочие члены братства рассредоточились вокруг него, и хотя Люций прекрасно понимал, что находится в смертельной опасности, он чувствовал себя необыкновенно живым. Крисандр, черноглазый, как примарх, провел по губам острым языком и вынул из ножен, вырезанных в плоти обнаженного бедра, кинжал с красным лезвием.
– Я освежую тебя, Люций, – сказал воин, слизывая с клинка засохшую кровь.
Калимос отцепил от украшенного кольцами пояса свернутый кнут, по всей длине которого поблескивали бритвенно острые зубы карнодона, а на кончике крепился инвитский усилитель боли. Он извивался, как змея, дрожал внутренней энергией и оплетал ногу хозяина. Абранкс вытащил из заплечных ножен два меча, а его брат по крови, Гелитон, опустил на кулаки шипастые цестусы.
Они кружили возле него, все сжимая кольцо, и разрабатывали планы мучений, которым подвергнут его в наказание за трату их времени. Каждый из капитанов стремился превзойти остальных в чудовищности намеченных действий, но Люций заставил себя не обращать внимания на угрозы.
– Говори, Люций, – сказал Кесорон. – Убеди нас, что нам солгали.
Люций встретил безразличный взгляд Кесорона и не отвел глаза, надеясь, что сможет найти в лице первого капитана союзника.
– Мне незачем вас убеждать, – сказал он. – Правда же?
– Мечник, если ты думаешь, что я тебя не убью, ты просто глуп, – ответил Кесорон.
– Я знаю, что вы можете убить меня, первый капитан, но я не это имел в виду.
– Тогда что ты имел в виду? – прорычал Калимос и щелкнул кнутом, оставив на напольных плитах алую царапину.
Люций переводил взгляд с одного лица на другое. Некоторые остались такими же, какими были до Исствана: идеальными, патрицианскими, но иные скрывались за причудливыми масками из плоти или фарфоровыми бесполыми арлекинами. Многие же были изуродованы глубокими ранами, неоднократными ожогами, рубцами от химикатов или многочисленными проколами.
– Вы ведь уже знаете, верно, первый капитан? – сказал Люций.
Кесорон усмехнулся, что было настоящим достижением для человека, у которого от лица почти ничего своего не осталось. Выражение веселого безумия в его глазах подтверждало подозрения, зародившиеся у Люция еще на Призматике.
Кесорон уже знал, что Фулгрим был не тем, за кого себя выдавал, но один союзник из всех этих воинов не спасет Люция, если ему не удастся убедить остальных.
– Братья, вы не могли этого не заметить, – сказал Люций, когда Даймон начал размахивать молотом по небольшой дуге. – Фениксиец говорит, но это не его голос. Он рассказывает о славных битвах прошлого так, будто его там вовсе не было. Он едва помнит войну с лаэрами, а когда все же вспоминает о победах, кажется, что он зачитывает текст из учебника.
– Старые войны, – хмыкнул Руэн, пробуя яд на клинке. – Войны, ведшиеся во имя другого. Что мне до того, как их помнят?
– Мое прошлое забыто, – сказал Гелитон. – Важно лишь то, кто я теперь.
– Это дурной сон, от которого я очнулся, – добавил Абранкс. – Если примарх о нем тоже не помнит, что ж, тем лучше.
Кольцо воинов начало сжиматься вокруг Люция, и он обнажил меч. Гелитон ударил его в плечо шипастым кулаком. Достаточно сильно, чтобы причинить боль, но не настолько, чтобы спровоцировать на ответ. Люций подавил инстинктивный позыв отрезать ублюдку голову. Калимос щелкнул кнутом, и Люций скривился, когда тот оставил на плече алую полосу, а в пластину доспеха воткнулся белый зуб.
Кинжал Руэна едва коснулся пореза от кнута, как стремительно распространяющийся яд окатил нервы огнем, и плечо свело судорогой. Люций покачнулся, перед глазами затанцевали яркие пятна.
– Я видел портрет в «Ла Фениче», – процедил он сквозь сжатые зубы. – Это он. Это он до резни.
Он почувствовал, что кровожадный интерес капитанов на мгновение ослаб, и слова полились из него потоком безумного сознания.
– Вы все его видели, видели это живое великолепие, – заговорил он. – Фулгрим на нем был изображен таким, каким он и должен быть – сияющей аватарой совершенства. Портрет восславлял его божественную красоту. Он воплощал в себе все, чем мы стремимся стать, изображал идеал, которому мы не могли не поклоняться. В нем было все, что мы знали о красоте, и истинном наслаждении, и блаженстве. Но я видел его – идеала больше нет. Они будто поменялись местами, будто две души колдовским образом переставили.
– Если мы подчиняемся не Фениксийцу, то кто командовал нами со времен битвы на черных песках? – поинтересовался Калимос.
– Я не знаю, не уверен, – ответил Люций. – Я не очень хорошо это все понимаю, но силы, которые мы видели во время «Маравильи»... Я видел, как они захватили тело той смертной певицы и преобразили ее, как разогретый у пламени воск. Вы все это видели. Силы, которые Фулгрим нам показал, превращают плоть в мягкую глину, и кто знает, что еще они могут? Нечто явилось на Исстване, – нечто, обладающее достаточным могуществом, чтобы подчинить разум примарха.
– Лорд Фулгрим называл таких созданий демонами, – сказал Марий Вайросеан. – Старое слово, но подходящее. Они кричат в ночи, когда мы летим от звезды к звезде, и скребутся о корпус корабля, неся с собой кошмары и темные обещания. Они играют волшебную музыку в моей голове.
Люций кивнул.
– Да, – сказал он. – Демон, точно. Вы все видели в «Ла Фениче», на что они способны. Какими силами они обладают. Теперь и у лорда Фулгрима есть эти силы. Я видел, как он наслал проклятие на боевую машину Механикум на Призматике. У нее не было щитов, и примарх, даже ее не касаясь, сделал так, что все живое в ней разрослось и мутировало, превратившись в шторм плоти, разорвавший механизм изнутри. Лорд Фулгрим был могуществен, но даже у него не было таких способностей. Они есть только у Алого Короля.
– Лорд Фулгрим – не колдун! – крикнул Абранкс, бросаясь на Люция с выставленными вперед мечами. Люций отбил неуклюжую атаку и ответил выпадом, наградив Абранкса аккуратным порезом на щеке.
– Я этого и не говорил, – ответил Люций, опускаясь в защитную стойку. – Послушайте, мы знали, что магистр войны заключает сделки с подобными созданиями, но это уже слишком.
Кесорон отодвинул других капитанов в стороны и схватил Люция за края нагрудника.
– Хочешь сказать, что за этим стоит Хорус Луперкаль? – резко спросил он.
– Я не знаю. Может быть, – ответил Люций. – А может, Фулгрим зашел дальше, чем мы от него ожидали.
Кесорон бросил взгляд на Фабия, остававшегося безучастным зрителем разыгрывавшейся драмы. Первый капитан вынул из ножен изогнутый разделочный нож и прижал кончик лезвия к пульсирующей артерии на горле Люция. Даймон, почуяв, что грядет кровопролитие, перехватил рукоять молота пониже и приготовился нанести сокрушительный удар.
– А что ты скажешь, Фабий? – спросил Кесорон. – Есть правда в словах мечника, или мне следует немедля убить его?
Фабий, чей изможденный вид совсем не отражал силу, скрытую в конечностях, провел рукой по жидким белым волосам. Шипящий, пощелкивающий Хирургеон, крепившийся на спине, как паразит, потянулся к Люцию через плечо апотекария и погладил по щеке тонким лезвием. Прикосновение было легким, как от пера, и Люций понял, что его ранили, только когда по губам побежала кровь – настолько острым оказалось лезвие.
Темные глаза апотекария весело заблестели, и он задумчиво кивнул, словно просчитывая, чем может закончится испытание боем, участники которого были равны по силе.
– Я тоже замечал странности, заставившие меня гадать, во что же превращается наш возлюбленный примарх, – произнес Фабий голосом сухим, как пустыня – напоминающим шелест змеи, ползущей по песку.
– Какие странности?
– Изменения в составе его крови и плоти, – ответил Фабий. – Как будто на молекулярном уровне распадаются связи между отдельными компонентами, складывающимися в единое целое.
– Что может это вызвать?
Фабий пожал плечами.
– Ничто из этого мира, – улыбнулся он с наводящей ужас жадностью. – Должен заметить, это весьма занимательно. Словно его тело готовится к какому-то великому вознесению, к чудесному отбрасыванию бесполезного облика и превращению плоти в нечто невероятное.
– А тебе не приходило в голову, что стоит об этом упомянуть? – спросил Люций, прекрасно осознавая, что лезвие еще находится у его горла. Он всего лишь заговорил, и этого оказалось достаточно, чтобы мономолекулярный кончик проколол кожу.
– Рано было сообщать, – огрызнулся Фабий. – Я не прерываю наблюдений, как ты не останавливаешься в середине дуэли.
– Хочешь сказать, что веришь ему? – спросил Марий Вайросеан, чье растянутое лицо не скрывало отвращения, которое он испытывал при мысли о том, что тело его повелителя мог захватить кто-то другой. Марий всегда был верной собачонкой примарха, беспрекословно подчинялся его приказам и никогда не позволял себе в них усомниться.
– Верю, Вайросеан, – ответил Фабий. – Мое исследование еще не закончено, но я полагаю, что в Фениксийце находится посторонняя сущность, готовящаяся трансформировать его в что-то иное.
Люций с мрачным удовольствием отметил, что реабилитирован, когда первый капитан убрал от его горла нож. Кружащие капитаны прекратили свой грозный танец, так поразило и захватило их то, что безумное заявление мечника поддержал сам Фабий.
Кесорон опустил его на пол и убрал руки.
Люцию казалось по-зловещему забавным, что клеймо предателей в этом восстании они заслужили из-за своей верности Фулгриму. Слепая, беспрекословная преданность этому несравненному созданию навлекла на них проклятье со стороны Империума. Ирония была очевидна им всем.
– Когда произойдет эта трансформация? – спросил Кесорон.
Фабий покачал головой:
– Нельзя определить точно, но я предполагаю, что куколочная стадия пройдет быстро. Более того, изменения в строении тела уже могли начаться. Возможно, процесс теперь не остановить.
– Но есть шанс, что это не так?
– Ни в чем нельзя быть уверенным, – признал Фабий.
– Тогда мы обязаны попытаться, – заявил первый капитан. – Если Фулгрим больше не управляет собственным телом, мы обязаны вернуть его. Мы – его сыны, и неведомое существо, захватившее его плоть, должно быть поймано и изгнано из его тела. Лорд Фулгрим – наш генетический отец, и я буду подчиняться лишь его приказам, ничьим более.
Между собравшимися капитанами пробежала искра лихорадочного возбуждения, и Люций позволил себе судорожно выдохнуть. Он убедил остальных в истинности своих подозрений, не потеряв при этом ни крови, ни головы.
– В связи с этим возникает вопрос... – сказал Люций. – Как нам схватить примарха?
10
В Галерее Мечей жаждущие внимания Дети Императора выставляли на обозрение свои последние шедевры из плоти. Надеясь вызвать интерес апотекария Фабия, его приверженцы увешивали рогатые статуи, выстроенные вдоль стен главного зала на «Андронике», произведениями жуткого живого искусства.
В огромных, высеченных из гранита героях – воинах, которые оставили на страницах галактической истории первые легенды о Детях Императора, – теперь не осталось ничего человеческого. Их лица, когда-то с любовью вырезанные из камня, обтесали заново, исковеркали, преобразили в угоду омерзительным эстетическим вкусам легиона. Ухмыляющиеся уроды будто следили за всеми, кто проходил у их ног, а их распутные выражения внушали смотрящим благоговейный ужас.
Апотекарий Фабий обустроил под Галереей Мечей логово: обширный медик-комплекс, превратившийся из места, где лечили, проводили исследования и стремились к лучшему, в тенистый лабиринт, где пытали, заставляли кричать и ставили кошмарные, бесчеловечные эксперименты.
Фулгрим вступил в Галерею Мечей в сопровождении Юлия Кесорона, как всегда величественный в длинной тунике кремового цвета, с серебряной вышивкой по подолу и воротнику. Его талию обхватывал пояс из зеркальных дисков: золотистый эфес анафема всегда был рядом с его рукой.
Белые волосы примарха были стянуты в высокий хвост и украшены перламутром, а придерживал их золотой лавровый венок. Грудь с четко очерченными мышцами была обнажена, а бледную кожу испещряли шрамы, оставшиеся от недавних операций, которые проводил над ним Фабий.
Хотя Кесорон был облачен в свой покрытый шипами и плотью терминаторский доспех, Фулгрим возвышался над ним на голову. Даже в простом одеянии он оставался опасным воином.
Примарх остановился у статуи, сильнее прочих пострадавшей от рук легионерских мастеров, и улыбнулся, подняв взгляд на высеченное из камня змеиное лицо. На броне воина были вырезаны священные символы, и три выпотрошенных тела висели в петлях из усеянных шипами веревок: двое на вытянутых руках статуи, а третий – на шее.
– Ах, Иллиос, ты бы сейчас себя не узнал – произнес Фулгрим с тоской и ностальгией. – Я помню тот день, когда ты впервые встал рядом со мной с мечом в руках – когда мы приводили к союзу восемнадцать племен. Мы были молоды тогда и ничего не знали о большом мире.
– Вам хотелось бы, чтобы он сейчас был с нами? – спросил Кесорон.
Фулгрим засмеялся и покачал головой.
– Нет, ибо мне вернее всего пришлось бы его убить. Он всегда был так непреклонен, Юлий. Он верно следовал кодексу чести былых времен, не думаю, что он одобрил бы новый путь, который мы, прозрев, избрали.
Примарх с грустью посмотрел на статую своего бывшего брата по оружию, и странное выражение промелькнуло на алебастровом лице. Кесорон уже не видел мир так, как раньше, но даже он заметил в глазах примарха тень мрачного воспоминания.
– Как наивны мы были, мой старый друг, – задумчиво произнес Фулгрим. – Как слепы...
– Повелитель?
– Не обращай внимания, Юлий, – сказал Фулгрим, направляясь к выходу из галереи.
– Как погиб лорд-коммандер Иллиос? – спросил Кесорон.
– Ты знаешь ответ, Юлий. Изучая, как достигается совершенство, ты должен был запомнить все о наших прошлых победах.
– Да, но в вашем исполнении они звучат особенно волнующе.
– Ладно, – улыбнулся Фулгрим. – Апотекарий Фабий не будет возражать, если мы немного опоздаем.
Кесорон помотал головой.
– Уверен, что не будет.
– Хорошо. О, Иллиос, тебя погубил твой пылкий нрав, – заговорил Фулгрим; голос его потеплел от воспоминаний. – Ты был полон благородных страстей и великих печалей. Плохое сочетание для воина, но ты был так силен, что твои слабости почти не имели значения. Он был могуч, Юлий, высок и горд, с трехлезвийным фальшионом и в доспехах Хемоса. Он был неудержим. Только один воин превосходил его, но он не держал зла на меня за то, что я был лучше.
– Он погиб на вершине города-левиафана, принадлежащего Баркеттанскому военному вождю, да?
– Если так хорошо знаешь эту историю, зачем просить меня ее рассказывать? – резко спросил Фулгрим, с яростью взглянув на него.
– Простите, повелитель, – сказал Кесорон, не поднимая головы. – Рассказ так увлекателен, ваши слова меня взбудоражили.
– Тогда тебе следовало помалкивать, Юлий, – сказал Фулгрим. – Когда я говорю, меня не перебивают. Смерть Эйдолона тебя ничему не научила?
– Это был хороший урок, – ответил Кесорон.
– Когда я рассказываю, я – звезда, вокруг которой ты вращаешься, – сказал Фулгрим, склоняясь к Кесорону и сковывая его гневным взглядом. Его глаза были словно черные озера, готовые зажечься немыслимой яростью. Кесорон понимал, что допустил ужасную ошибку, заговорив, и что его жизнь сейчас висела на волоске.
– Но кто кроме вас, повелитель, может рассказывать с такой страстностью, что невозможно не отозваться?
– Никто другой, – согласился Фулгрим. – Вполне естественно забыться, слушая меня.
Гнев Фулгрима испарился, и он хлопнул Кесорона по наплечнику, отчего первый капитан пошатнулся.
– Ах, что мы за люди, Юлий! – вздохнул примарх. – Вспоминаем прошлые победы, когда еще есть новые враги, на которых предстоит обрушить наш гнев, и новые ощущения, которые предстоит испытать.
– Тогда поспешим к апотекарию Фабию, – ответил Кесорон, указав на затененный арочный проход в дальней стороне Галереи.
– Да, поспешим, – отозвался Фулгрим трепещущим от предвкушения голосом. – Интересно, какие чудеса он приготовил для меня на этот раз.
– Он обещает нечто поразительное, – сказал Юлий Кесорон.
11
Люций смотрел, как Фулгрим и Юлий Кесорон приближаются к выходу из галереи. Он прерывисто дышал и отчаянно пытался не дать возбуждению лишить его осторожности. Он совершал восхитительное предательство, но все же не хотел пока умирать. С такими желаниями, пожалуй, не стоило атаковать примарха, но сейчас усиленные органы чувств слишком сильно переполняли его ощущениями.
Камень под голой ладонью предлагал фейерверк текстур: шероховатые, гладкие, изрезанные, грубо обтесанные. Розовый гранит был сначала отполирован так, что неровности остались только на микроскопическом уровне, а потом с ликующей яростью расколот долотами. Он уже не мог определить, за статуями каких героев скрывался, и этого знания не хватало, как не хватает отсутствующего зуба.
Люций отогнал от себя новое наваждение и, глубоко вздохнув, заставил себя вернуться к мыслям о предстоящей задаче. Стремление к ощущениям на пределах возможностей дарило немыслимые восторги, но, к сожалению, обычно отвлекало воина от его задач. Увлеченность одного воина не приводила ни к чему хорошему, но горе тому миру, который изберет своей жертвой целый легион, охваченный жаждой чувственного опыта.
Он с усилием перевел взгляд к середине Галереи, к Кесорону, заманивавшему Фулгрима все дальше в ловушку. В тенях огромных статуй скрывались воины Вайросеана, невидимые под маскировочными плащами и неслышимые благодаря акустическим нейронным имплантатам, которые посылали нестройные вопли прямо им в мозг. Когда наступит нужный момент, эти имплантаты замолчат, и воины, лишенные пронзительного блаженства, станут искать ему в замену в новых ощущениях. Вайросеан разработал устройства во время путешествия с Призматики, и хотя Люцию не хотелось признавать за этой серостью какие-либо таланты, он не мог не видеть, что на поле боя имплантаты превращали какофонов в одержимых, фанатичных убийц.
В бою против примарха эти качества им пригодятся.
Сложно было поверить, что Фулгрим до сих пор их не заметил; впрочем, ведь не только воины легиона стали зациклены на себе, но и их примарх. И если Люций почти не видел окружающего мира за туманом своей эгоцентричности, каких же высот себялюбия, должно быть, достигло столь исключительное создание, как Фулгрим.
Люций взглянул направо, где был затененный вход в проклятое логово апотекария Фабия. Он вспомнил, как спускался в тускло освещенный лабиринт после отречения от глупцов на Исстване-III, как все его нервы были напряжены в боязливом предвкушении. Он редко бывал в апотекарионе: с его мастерством медицинская помощь почти никогда не требовалась. В его воспоминаниях помещения были стерильными, тщательно убранными, прохладными, теперь же они превратились в галерею уродств, с бурыми пятнами и биологическими трофеями на стенах, с диковинными мутантами и резервуарами, наполненными булькающими ядовитыми жидкостями.
Там невыносимо воняло, однако после того, как Фабий раскрыл его и переделал по образу и подобию примарха, апотекарион стал для него местом чудес. Но хотя Люций наслаждался открытиями, сделанными благодаря Фабию, ему так и не удалось избавиться от неприязни к апотекарию. Впрочем, сейчас эти проблемы едва ли имели значение.
Он услышал, как Фулгрим что-то спросил, но слов не разобрал и выругался про себя, осознав, что опять отвлекся. Собравшись, он устремил все внимание в одну точку. Фулгрим был уже совсем рядом, и именно Люцию, как автору этого плана, предстояло сделать первый шаг.
Люций вышел из теней, и тонкая граница, разделявшая жизнь и смерть, стала еще тоньше. Его чувства обострились, так ярок был этот момент, так будоражила его мысль о том, что он собирался сделать, так безумно все это было, и так необратимо.
– Люций? – весело улыбнулся Фулгрим. – Что ты здесь делаешь?
– Я хочу с вами поговорить.
– А где же «повелитель», Люций? Ты забыл, с кем разговариваешь?
– Я не знаю, с кем разговариваю, – ответил Люций, смотря в холодные, матовые глаза Фулгрима. Он не видел в них ни жалости, ни человечности – ничего, что напоминало бы о повелителе и господине, которому служил и которого любил всем сердцем. Он гадал, правда ли это, или он просто вспоминает никогда не существовавшее прошлое, фальшивую историю, придуманную для того, чтобы оправдать этот момент.
– Я Фулгрим, повелитель Детей Императора, – ответил Фулгрим, оглядываясь по сторонам, словно охватывая чувствами окружающее пространство и постепенно осознавая, что на его шею только что накинули петлю. – И ты будешь мне подчиняться.
Люций покачал головой и положил ладонь на навершие меча. Он без удивления обнаружил, что она была влажной от пота.
– Я не знаю, кто вы, но вы не Фулгрим, – сказал Люций, и примарх засмеялся. Это был хороший смех: заразительный и полный искреннего веселья – смех человека, который знает, что в услышанной шутке скрывается куда больше, чем думают окружающие.
Фулгрим ухмыльнулся, в его темных глазах зажегся огонек извращенного удовольствия, которое дарила ему эта сцена.
– Думаешь, можешь одолеть меня, мечник? Так? – спросил Фулгрим. – Я вижу, как ты смотришь на меня, вижу, с какой одержимостью изучаешь меня и как жаждешь доказать, что ты лучше всех. Думаешь, я не понимаю, что ты хочешь со мной сразиться?
Люций скрыл удивление. Он полагал, что погруженный в себя Фулгрим не замечал испытующих взглядов, но ему следовало догадаться, что настоящее себялюбие питается вниманием окружающих, и примарх наверняка с удовольствием играл роль изучаемого. Что еще он мог знать? Действительно ли он устроил целое представление, чтобы заставить Люция поверить в собственное превосходство, или просто блефовал?
– Я следил за вами со времен резни на Исстване-V. Вы – не тот воин, за которым я следовал в войне на Лаэране. Фулгрим, который сейчас смотрит на меня и призывает к бою – не тот Фулгрим, за которым я спустился на поверхность эльдарского мира. Ты самозванец с лицом моего повелителя, а я не буду подчиняться приказам узурпатора.
Фулгрим опять захохотал, опустившись на корточки; слова Люция так развеселили его, что он готов был упасть. Люций раздраженно нахмурился. Разве он сказал что-то смешное? Он покосился на Кесорона, но по его лицу невозможно было что-либо понять.
– Ах, Люций, ты просто сокровище, – застонал Фулгрим. – Неужели ты не понимаешь? Все мы подчиняемся приказам узурпатора. Хорус Луперкаль еще не получил титул императора. Пока этого не случилось, кто он, как не узурпатор?
– Это не одно и то же, – ответил Люций, чувствуя, как испаряется его убежденность в собственной правоте. – Хорус Луперкаль в самом деле магистр войны, но ты не Фулгрим. Я вижу его лицо, но за ним скрывается что-то другое, – что-то, порожденное теми же силами, которые подарили нам возможность в полной мере испробовать чудеса этой галактики.
Фулгрим выпрямился и сказал:
– А если и так, разве не следует тебе, мечник, пасть передо мной ниц и молить, чтобы я открыл тебе глаза на новые красоты? Если я – аватара варповского Темного Принца в плоти твоего дорогого примарха, разве я не лучше него учу вас, как удовлетворять свои желания и потребности?
В тенях между статуями началось движение, и с противоположных сторон от мраморной статуи лорда-коммандера Пеллеона вышли Гелитон и Абранкс. Марий Вайросеан зашагал через зал; на его боку висело длинноствольное оружие, гудящее от мощи, скрытой в диссонансных катушках. Его какофоны выступили из укрытия, и глаза их были расширены от безумия и жажды звукового удовольствия.
Из арки, ведущей в подземное царство, показался апотекарий Фабий, а по бокам от него шли Калимос, Даймон, Руэн и Крисандр.
Фулгрим медленно повернулся вокруг своей оси, оценивая число выстраивающихся перед ним легионеров.
Люций насчитал около пятидесяти воинов и пожалел, что у него нет еще пятидесяти. И еще сотни вдобавок к тем.
Капитаны окружали Фулгрима, вооруженные и переполняемые жаждой крови. Люций обнажил собственный клинок и повел плечами, разминая мышцы. Они явились сюда не для того, чтобы убить Фулгрима – едва ли смертные вообще были на это способны – но стремительно разворачивающая драма явно начинала выходить из-под контроля.
– О, я предан теми, кто мне был дороже всех, – воскликнул Фулгрим, прижимая руки к груди, словно его сердце было разбито. – И вы все поверили в эту ложь? Неужели вы в самом деле решили, что я – не ваш возлюбленный генетический прародитель, спасший вас от вымирания и приведший на истинный путь, скрытый от нас нашим бывшим отцом?
Фулгрим скривился, и Люций немало смутился, заметив, что по безупречному, мраморному лицу примарха покатилась слеза.
Примарх обратил на Юлия Кесорона взгляд, полный боли от этого предательства.
– И ты, Юлий? – спросил Фениксиец. – Так умирай же, Фулгрим!
– Взять его! – взревел Юлий Кесорон, капитаны легиона отскочили от Фулгрима, и Марий Вайросеан выпустил из своей пушки шквал оглушительных раскатов. От звуковой атаки раскололись статуи, а Люция охватила приятнейшая дрожь, когда порыв опрокинул его на пол галереи.
Разрушительная мощь акустической волны сорвала с Фулгрима одежду и разбила золотой лавровый венок на тысячи кусочков, заставив примарха покачнуться и упасть на колено. На нем осталась только алая набедренная повязка, и Люций восхитился едва ли не змеиной гибкостью его тела.
Даймон прыгнул к преклоненному примарху, замахиваясь своим абсурдно огромным молотом, словно топором палача. Фулгрим уклонился от атаки, так что шипастое навершие оружия врезалось в каменный пол; от удара в стороны брызнули осколки. Не успел Даймон выдернуть молот, как Фулгрим шагнул к капитану и ударил его по лицу основанием ладони. Даймон не вскрикнул: его лицо было проломлено мгновенно. Воин еще падал, когда Фулгрим подхватил молот в правую руку, а Руэн метнулся вперед и по самую рукоять вонзил отравленный кинжал ему в бок.
Рукоять молота опустилась на локоть Руэна, раздробив кости в предплечье и плече. Капитан взвыл от боли, но для ушей Люция этот вопль прозвучал музыкой. Фулгрим между тем вырвал до смешного маленький кинжал из тела, отшвырнул Руэна ногой, и тот, прокатившись через галерею, врезался в статую с треском разбитой брони и сломанных костей.
Люций обошел Фулгрима по кругу, еще не готовый присоединяться к схватке. Клинок в его руке подрагивал, жаждая повести его в танец мечей и ощутить изысканный вкус этой крови.
– Еще рано, красавица моя, – прошептал он. – Пусть он растрачивает гнев и мощь на других.
Люций не мог определить, подействовали ли яды Руэна на Фулгрима, но, похоже, капитан двадцать первой роты зря хвалился, что его отрава может свалить любого противника.
Какофоны дали ревущий залп из своего звукового оружия, наполнив Галерею Мечей смешивающимся эхом и отражающимися от стен аккордами, от которых пошла кровь из ушей. Яростный звук заставил плоть и кости Фулгрима завибрировать, но он лишь вскрикнул от удовольствия, хотя должен был трижды умереть.
Гелитон выступил вперед и обрушил покрытый шипами цестус на поясницу Фулгрима. Такой удар раздробил бы позвоночник даже закованному в броню Астартес, но примарх снес удар и развернулся на пятках. Гелитон упал на спину от удара локтем; его нижняя челюсть, превращенная в крошево, повисла на одном лишь блестящем сухожилии. Абранкс закричал, увидев, что его дорогой друг повергнут, и сделал выпад к шее Фулгрима обоими мечами. Примарх отразил один клинок рукоятью молота, но Абранкс, крутанувшись, вошел за границу досягаемости оружия и полоснул вторым мечом по его горлу.
Из раны хлынула кровь, и Фулгрим с искренним удивлением округлил глаза. Люций ощутил укол горького разочарования и ядовитой зависти при виде подобного удара в исполнении такого посредственного мечника, как Абранкс. Но кровотечение остановилось, едва успев начаться, Фулгрим схватил Абранкса за шею и отбросил его в сторону.
– Хороший прием, Абранкс, – удовлетворенно прохрипел Фулгрим. – Я его запомню.
Калимос щелкнул шипованным хлыстом, обмотав его вокруг левой руки Фулгрима. Зубы карнодона вонзились в плоть, из ран брызнули струйки крови, а как только Калимос натянул хлыст, Юлий Кесорон выступил вперед и со всей мощью силового кулака ударил его хуком слева. Такой удар мог пробить броню танка, Фулгрим же лишь упал на колени, но прежде чем Кесорон успел атаковать во второй раз, Калимос дернул за хлыст, а Крисандр вонзил кинжал между лопатками примарха.
Фулгрим сжал в кулаке впившуюся в него плеть и, казалось, просто слегка потянул ее на себя. Калимос взметнулся в воздух, пролетел мимо примарха, врезался в Крисандра, и они вдвоем покатились к дальней стене галереи. Кесорон опять замахнулся, но Фулгрим, ожидавший этого, поставил блок молотом Даймона и ударил его голым кулаком в лицо. Кесорон, охнув, упал, однако добивать его Фулгрим не стал.
– Давай, Люций, атакуй! – прокричал Фабий, и мечник мысленно выругался на апотекария, когда Фулгрим развернулся к нему. Примарх бросил молот и вынул из ножен сияющий клинок, который Хорус Луперкаль подарил ему на борту «Мстительного духа».
– Вот и твоя очередь, мечник, – оскалился Фулгрим, покачиваясь.
Люций заметил, что бледное лицо его примарха становится пепельно-серным, и плюнул на пол.
– Дуэль будет пустой тратой времени, – сказал он. – Яд Руэна и твои раны лишают ее всякого смысла.
Фулгрим раскинул руки в стороны и оценивающе взглянул на кровь, текущую по его телу.
– Это? – произнес он. – Это ерунда. Выходи против меня с мечом, который я тебе подарил, и мы разрешим наши вопросы раз и навсегда, ну же?
Люций склонил голову набок, посмотрел в безумные глаза примарха и осознал непреложную и столь же неминуемую истину.
Даже израненный, Фулгрим его убьет.
А Люций не был готов умирать, не ради этого.
Он не успел обдумать этот вопрос основательнее: Юлий Кесорон поднялся за спиной Фулгрима и обрушил на его череп силовой кулак. От удара, который должен был превратить голову жертвы в кровавую бесформенную массу, Фулгрим всего лишь упал. Фениксиец замотал головой, и его окровавленная ухмылка напомнила Люцию жуткое резное изображение, увиденное в руинах Исствана-V.
Когда Фулгрим попытался подняться на ноги, Марий Вайросеан прижал дуло звуковой пушки к его шее и выпустил поток пронзительных, режущих слух импульсов. Люций вскрикнул от боли, а Фулгрим застонал, закатив глаза, но в этом стоне отчетливо слышалось исступленное наслаждение.
Меч выпал из руки примарха, и он рухнул на покрытый трещинами пол. Люций посмотрел наверх и заморгал: перед глазами танцевали яркие точки, а в голове словно звенел миллион колоколов. Он стоял в нескольких метрах от Вайросеана, так что даже представить не мог, какой эффект звук оказал на Фулгрима.
Выжившие капитаны поднялись и встали вокруг побежденного бога. Никогда раньше они не участвовали в подобной битве. Воины легиона напали на собственного примарха – и они в полной мере осознавали, как много это значит.
Люций не знал, что ему чувствовать. У него украли возможность сразиться с Фулгримом, пусть он и знал совершенно точно, что схватка закончилась бы его поражением. Но какое-то тайное чутье говорило, что ему еще представится возможность скрестить свой меч с ксеносским клинком примарха, но его история на этом не закончится
Люций перевел взгляд на остальных капитанов. Никто не посмотрел на него в ответ, ибо они не могли оторвать глаз от поверженного примарха. Из многочисленных трещин на броне Калимоса шла кровь, а грудная пластина Крисандра погнулась так сильно, что каркас грудной клетки, должно быть, был просто раздроблен. Абранкс стоял на коленях возле Гелитона, придерживая рукой повисшие на лоскуте обломки его нижней челюсти. Вайросеан раскрыл свой распахнутый рот еще шире, приняв злое победное выражение, а Юлий Кесорон уставился на свой кулак, будто не мог поверить, что в гневе поднял его на Фулгрима.
Они молчали. Они не знали, что сказать.
Они подняли оружие на своего примарха и сделали это с удовольствием.
Апотекарий Фабий нарушил таинство их тишины.
– Идиоты! – прошипел апотекарий своим безжизненным голосом. – Вы так и будете стоять здесь, разинув рты, как рыбы на воздухе, пока он не очнется?
Фабий развернулся и направился к арочному входу в свой некрополь безумных операций. Дойдя до края тени, он вновь посмотрел на капитанов легиона.
– Отнесите его вниз, – сказал Фабий. – Впереди много работы.
– Что именно ты собираешься делать, апотекарий? – хмуро спросил Кесорон.
– Я изгоню существо, захватившее тело примарха.
– Каким образом? – спросил Люций.
– Любым, какой потребуется, – ответил Фабий с мерзкой улыбкой.
12
Никогда раньше он не видел ничего столь ужасного.
Никогда раньше он не видел ничего столь восхитительного.
Фулгрим, Фениксиец, повелитель Детей Императора, командующий Третьим легионом, закованный в самые крепкие кандалы, обездвиженный наркотиками, обнаженный, уложенный на холодной стальной раме, как труп, подготовленный к вскрытию. Руки его были закинуты над головой, ноги разведены, как у Витрувианского человека былых времен.
Взгляд Люция блуждал по его бледной коже, по этой алебастровой твердой плоти, покрытой сеткой хирургических шрамов и швов, говоривших о немыслимых операциях и невероятных экспериментах, которым подверглось священное тело.
В этой невообразимой измене, в чудесном волнении страшного предательства, содержалась исключительная ценность. Впрочем, хотя он называл это предательством, разве не преданность они проявляли, пытаясь изгнать существо, подчинившее душу их повелителя?
Фабий ходил вокруг лежащего примарха, вводя в его руки и грудь иглы толщиной с мизинец Люция. По хим-шунтам в кровь текло снотворное и миорелаксанты, которые свалили бы самого здоровенного зеленокожего. Блестящие серебристые провода, подключенные к гудящим генераторам, отходили от висков и паха примарха – а также от всех участков тела, где можно было причинить особенно сильную боль.
Свет был приглушен, как и подобало в этих преступных обстоятельствах, а тишину нарушало только бормотание закутанных сервиторов в темных углах и пыхтение машин, которые Фабий подключил к их...
Люций хотел сказать: «пациенту», но вместо этого в голове возникло слово «жертва».
Юлий Кесорон молча стоял в ногах рамы, а Марий Вайросеан вышагивал по залу, как хищник в клетке. Его беспокойство заставило Люция улыбнуться. Вайросеан всегда был прислужником, слепо преданным рабом. Теперь, не зная, подчиняется ли он чему-то, что не было Фулгримом, или предает своего повелителя, он, должно быть, был полон противоречивых мыслей и страхов.
Люций почти завидовал ему.
Рабы Фабия отнесли стонущих Гелитона и Руэна глубже в лабиринт. Для них уже приготовили искусственно выращенную плоть и ксенослюнные хирургические нити. Даймона было не спасти – примарх проломил ему череп кулаком – но остальные изменники выживут. При мысли об этом в голове Люция зашевелилось сомнение, и он повернулся к Кесорону.
– Вы верили, что у нас получится? – спросил он.
– Что получится?
– Сделать это, – сказал Люций, показав на побежденного примарха. – Схватить Фулгрима. Я не был уверен, что у нас получится.
– Ты и не пробовал, – заметил Кесорон.
– О чем вы?
– Взгляни на себя, – прошипел Кесорон. – На тебе ни царапины, мечник. Ты приходишь к братству с этой проблемой, а потом стоишь в стороне и смотришь, как мы сражаемся вместо тебя.
Люций оскалился: злость Кесорона оживила его.
– Там, наверху, была просто потасовка. Я сражаюсь с предельным изяществом, абсолютной отдачей и стремительным совершенством. Для того боя ни одно из этих качество не требовалось.
– А мне так кажется, ты понял, что не сможешь с ним справиться.
– И это тоже, – согласился Люций. – Но стыдиться тут нечего.
– Пожалуй, – сказал Кесорон, и его неустойчивый гнев испарился так же быстро, как возник.
Марий Вайросеан обошел раму; в его вытянутом лице невозможно было что-либо разглядеть. Капитан третьей роты повесил звуковую пушку за плечо, но от ее насыщенных энергией катушек еще исходили пульсирующие волны резкого звука.
– Даймон мертв, – сказал Вайросеан. – А Гелитон умер по пути вниз.
– Думаю, легион переживет эту потерю, – ответил Люций.
– Рука Руэна раздроблена, ее не вылечить, – продолжил Вайросеан, проигнорировав замечание Люция. – Крисандр и Калимос выживут, но они не будут участвовать в... этом.
– Не такая уж и большая цена за победу над примархом, – заметил Кесорон, когда к ним подошел Фабий.
Апотекарий убрал белые волосы в хвост, отчего его лицо, и так худое, стало выглядеть еще изможденнее. У него были черные глаза, но Люций не помнил, всегда ли они такими были, или Фабий изменил их цвет, стремясь походить на примарха. На нем был длинный, до пола, плащ из человеческой кожи, содранной с трупов на Исстване-V. На некоторых участках виднелись черты лиц: рот, распахнутый в вечном крике агонии, или глаза, в ужасе округлившиеся при виде свежевательного ножа. Несколько лиц показались Люцию знакомыми, но он знал, что без костей, придающих форму, все лица были похожи.
Фабий не стал брать свой Хирургеон, предпочтя пояс из узловатых сухожилий с продетыми металлическими петлями, на которых висели инструменты палача. В тусклом свете блестели крючья, лезвия, щипцы и иглы, однако Люций не был уверен, что эти примитивные орудия смогут вырвать крики боли из такого могущественного создания, как Фулгрим.
– Можно начинать, – сказал Фабий, надевая позвякивающие перчатки из серебристого металла.
– Тогда не будем терять времени, – сказал Кесорон. – Если Люций прав, и за лицом Фулгрима скрывается кто-то другой, чем раньше мы от него избавимся, тем лучше.
Они встали вокруг Фулгрима, разрываясь между осознанием чудовищности своих действий и надеждой на новые ощущения. Уже то, что им удалось схватить примарха, было чудом, но изгнать порождение варпа...
Возможно ли это вообще?
Люций переводил взгляд с одного лица на другое, понимая, что никто из собравшихся возле тела Фулгрима не мог ответить на этот вопрос. Дети Императора предпочитали не использовать библиариев. Псайкер имел возможность управлять силами варпа благодаря генетической мутации, изъяну. А в легионе Фулгрима не терпели никаких изъянов.
– И каков план? – спросил Кесорон.
– Сначала разбудим его, – ответил Фабий, поглаживая грудь Фулгрима иголками на кончиках пальцев.
– Предположим, что он не вырвется сразу же и не переубивает нас. Что потом? – спросил Люций.
– Мы изгоним существо, – ответил Фабий. – Уговорами, угрозами и болью.
– Болью? – фыркнул Вайросеан. – И ты можешь причинить примарху боль, которую он почувствует?
Фабий улыбнулся змеиной улыбкой, обещавшей самые разнообразные муки, о которых знал только он, но которые был готов с радостью продемонстрировать.
– Я знаю это тело, как никто другой, – сказал Фабий, с интимной бесцеремонностью проводя хирургически улучшенными пальцами по коже Фулгрима. – Я знаю все: как его вырастили, какие тайные силы вплетены в эту плоть, какие удивительные органы составляют это сверхъестественное существо. Император создал его, я же разбил его на составные части и переделал в нечто еще более великое.
Высокомерие Фабия изумляло, но Люций начал чувствовать к нему симпатию. Раскрыть тело примарха и взглянуть на чудеса, таящиеся внутри, – этой чести удостаивались немногие, если вообще кто-либо удостаивался, так что, может, это высокомерие было порождено знаниями.
– Так приступай, – приказал Кесорон.
Фабий кивнул, но в этом кивке выразилось скорее веселье, а не подчинение. И Люций задумался, как скоро наступит тот момент, когда Фабий с его высокомерием вовсе перестанет быть частью командной структуры? Дети Императора, когда-то строгие и непреклонные, еще сохраняли старое устройство за неимением лучшего, но и оно разрушалось по мере того, как воины ставили свои желания и прихоти все выше и выше нужд легиона.
«Как скоро наступит тот момент, когда мы превратимся в разрозненные банды, дерущиеся ради своих прихотей?»
Люций не знал ответа на этот вопрос, но это его не очень беспокоило. Ему было искренне все равно, останется ли что-либо от старого легиона после его перерождения.
Фабий подсоединил к руке Фулгрима капельный шланг, и по нему побежала мерцающая алая жидкость. Едва она вошла под кожу примарха, как Фулгрим открыл свои черные глаза и быстро заморгал, словно его разбудили от яркого сна.
– А, сыны мои, – сказал Фулгрим. – Что за новое развлечение вы мне приготовили?
Фабий наклонился к Фулгриму и сказал ему в ухо:
– Ты ведь не Фулгрим, верно?
Взгляд Фулгрима метнулся к апотекарию, и Люций заметил в нем отблеск сговора. Он подался вперед и убрал руку Фабия с груди Фулгрима.
– Люций, – благоуханно выдохнул Фулгрим. – Жаль, что нам не довелось ощутить на себе ласку металла, тебе так не кажется?
– Мне кажется, ты уже давно заманивал меня на этот бой, – ответил Люций.
Фулгрим засмеялся.
– Неужели меня так легко разгадать? Это стало бы невероятным опытом, Люций. Как ты можешь говорить, что по-настоящему живешь, если никогда раньше не умирал? Восстать из пепла прошлой жизни и переродиться в жизнь новую. Погрузиться в небытие и вернуться, о, от такого опыта нельзя необдуманно отказываться.
– Мне кажется, радости смерти мне быстро разонравятся, – ответил Люций. – Лучше я пока ограничусь удовольствиями, которые предлагает жизнь.
Фулгрим разочарованно надул губы.
– Как ограниченно с твоей стороны, сын мой. Но неважно, думаю, со временем ты образумишься. А теперь что касается всех остальных. Неужели вы правда считаете, что я лгу вам, когда говорю, что я – ваш повелитель?
– Мы знаем, что ты не Фулгрим, – сказал Кесорон.
– Тогда кто я, по-вашему?
– Создание имматериума, – ответил Вайросеан. – Демоническое отродье.
– Демоническое? – засмеялся Фулгрим. – А как еще ты опишешь примарха? Неужели ты настолько наивен, что думаешь, будто все под названием «демон» – зло? И демон, и примарх созданы из энергии имматериума, это объединения плоти и духа, рожденные неестественными методами. Если бы ты что-нибудь знал о том, как я был создан, ты бы не бросался такими словами.
– То есть ты признаешь, что ты демон? – прошипел Кесорон.
– Юлий, мой дорогой сын, – ответил Фулгрим. – Ты теперь так жаждешь конфликта, что сознательно закрываешь глаза на правду? Я уже сказал вам, что по примитивному определению Мария я действительно демон! Демон, сотворенный существом, которое намеревается достичь бессмертия, использовав нас как пушечное мясо при штурме царства богов.
– Оно пытается выдать ложь за правду, – предупредил их Фабий. – Как конь древней Трувы, он преподносит обман в радующем ваш слух облачении.
– Тогда нам следует отрезать ему язык, – сказал Люций, и за это был награжден беспокойным выражением в темных глазах Фулгрима. В этом выражении был гнев, веселье и разочарование, но он не мог определить, что примарх на самом деле испытывал.
– Марий, – сказал Фулгрим. – Тебя я здесь ожидал увидеть в последнюю очередь.
Слова переполняла боль, но Мария Вайросеана они не тронули. С тех пор, как Марий подвел Фулгрима на Лаэране, он стал самым преданным его слугой, всегда готовым угодить, полным решимости без вопросов исполнять любые приказы. Но Фулгрим ошибался, если рассчитывал сыграть на этой черте Вайросеана.
– Моя любовь к моему примарху безгранична, – сказал Марий, наклоняясь вперед, словно хотел плюнуть в лицо связанному Фулгриму. – Но ты – не он, и я сделаю все, лишь бы изгнать тебя из его тела. Я снесу любую боль, переживу любые страдания, чтобы этого добиться. Понятно тебе, демоническое отродье?
Лицо Фулгрима рассекла широкая усмешка.
– Тогда хватит болтать, щенки, – сказал он. – Погрузимся же в глубины безумия вместе!
13
Фабий начал с древнейшего приема в допросах – c демонстрации своих многочисленных пыточных приспособлений и c объяснений, как они будут использоваться. Здесь были как простые инструменты, которые мог бы использовать какой-нибудь обработчик по металлу или дереву, – молотки, острогубцы, гвозди, сварочные пистолеты, шилья, рубанки, низкооборотистые дрели – так и более экзотичные орудия страданий. Нервосклейщики, разжижители органов, буры для костной пункции и раздражители мозгового ствола.
– Этим последним устройством мне будет особо приятно воспользоваться, – сказал Фабий, вводя несколько металлических шипов в позвоночник Фулгрима. Он развернул раму, на которой лежал Фулгрим, вокруг продольной оси, так что взгляду открылись иссеченные плечи и спина, представлявшая собой растерзанное полотно из рубцов и еще затягивающихся шрамов. Для Люция плоть примарха выражала достойную восхищения ревностность – целенаправленное стремление к сладостной агонии, которой мог достичь лишь истинный ценитель боли.
– Что это и что оно делает? – спросил Кесорон.
Фабий улыбнулся, довольный, что ему представилась возможность рассказать о своем инструменте страданий.
– Это нейропаразит, которого я создал из сплайсированных образцов ксеносской мозговой жидкости и нанотеха, добытого у капитанов-гибридов Диаспорекса.
– Ты не ответил на его вопрос, – резко сказал Марий.
Фабий кивнул и постучал длинным ногтем по затылку Фулгрима. Этот жест заставил Люция нахмуриться – слишком уж ясно стала видна отчужденность Фабия. Фулгрим для него превратился в очередной кусок мяса, над которым можно было проводить свои биологические фокусы. От исхода этого предательства зависело, каким путем пойдет легион, но Фабий воспринимал все это лишь как способ узнать больше о какой-нибудь анатомической причуде и как возможность испытать новое изобретение. Неприязнь, которую Люций испытывал к Фабию, сменилась ненавистью.
Фабий поднял аппарат, напоминавший заднюю часть боевого шлема, и повернул его в руках. С одного бока выходили тонкие шипы, подсоединенные к ряду инжекторов, а в них дрожала блестящая серебристая жидкость, похожая на ртуть.
– После подключения прибора в тело объекта вводится нанофлюид, который проникает в мозговой ствол и по нейронным проводящим путям следует в мозг. Различные ксено-особи, использованные при создании сыворотки, обладали повышенными психическими способностями, так что вмешательство в химические процессы мозга позволяет оператору устройства получить доступ к любой области мозга и стимулировать ее, как ему требуется.
– И что это даст? – спросил Люций, хотя он уже догадывался, каким будет ответ.
– Все смертные существа – это просто машины, – сказал Фабий. – Механические животные – из плоти и крови, но управляемые по механистическим, в сущности, принципам. То, что мы по ошибке считаем личностью или характером, является лишь формой реакции на воздействия. И возможно создать полнофункциональную машинную копию личности, не отличимую от живого существа, если построить достаточно сложный алгоритм. А зная это, мы можем стимулировать определенные участки мозга, усиливая нужные нам проявления и блокируя остальные. Я мог бы взять новорожденного и разбить ему голову об стену на глазах его матери, а это устройство заставит ее испытывать безумный восторг, если я того захочу. Или я мог бы слегка коснуться груди человека, а ему будет казаться, что я голыми руками вырываю ему сердце.
– Тогда к чему остальные инструменты? – спросил Кесорон.
– Пусть это устройство и способно заставить человека думать, что он сгорает заживо, когда рядом нет и искры, более примитивный подход к боли несет в себе некоторое... очарование, – признался Фабий.
– Насчет этого я с тобой согласен, – сказал первый капитан.
– Тогда чего мы ждем? – поинтересовался Вайросеан. – Давайте уже начинать – и быстрее со всем этим покончим.
Фабий медленно кивнул и опять развернул раму. Люций видел по раскрасневшемуся лицу Фулгрима, что того привлекала мысль о грядущих попытках спасти душу украденного им тела.
– Я помню это устройство, – сказал Фулгрим. – Неужели вы действительно верите, что оно сработает на создании вроде меня? Мое сознание на порядок сложнее вашего. Оно действует в сферах, которые вы не в состоянии постичь, его верхние границы располагаются так высоко, что оно не вмещается в плотскую оболочку и должно существовать в измерениях, куда могут проникнуть лишь боги.
– Вот и узнаем, – сказал Фабий, оскорбленный, что в его гениальности усомнились.
– Начинай с этого, – приказал Кесорон. – Если у нас все получится, должно остаться идеальное тело, в которое Фулгрим сможет вернуться.
– Сыны мои, вас завели сюда, как овец на убой, – сказал Фулгрим. – Люций подает вам идею, от которых в ваших унылых жизнях загорается искра интереса, и вы хватаетесь, как за соломинку, за эту возможность хоть что-нибудь почувствовать. Неужели вы ничего не усвоили после нашего вознесения? Нонконформизм в мыслях и действиях – вот настоящая жизнь. Узы братства – для стада, а ересь божественна!
– Довольно болтовни, – сказал Люций, схватил острогубцы и поставил их над средним пальцем правой руки Фулгрима. Одним быстрым ровным движением он отрезал палец у среднего сустава, и кровь забила из раны, но вскоре замедлилась до капанья.
Фулгрим взвыл, но от боли или удовольствия – Люций не мог определить.
Фабий, зло нахмурившись, выхватил щипцы из рук Люция.
– Пытка – это искусство, требующее точности и скрупулезности, это ступенчатая пирамида боли, – сказал он. – Только дилетанты будут беспорядочно резать и уродовать. Я в такой мясорубке участвовать не собираюсь.
– Тогда прекращай болтать и приступай, – ответил Люций. – Потому что мне начинает казаться, что ты намеренно нас задерживаешь.
– Мечник прав, – заметил Кесорон, нависая над апотекарием. Рядом с Юлием, облаченным в терминаторскую броню, Фабий казался карликом, и апотекарий покорно кивнул.
– Как вам угодно, первый капитан, – сказал Фабий, поворачиваясь к своим инструментам. – Мы начнем с пытки огнем.
Пульс Люция участился, когда Фабий взял с верстака газовый резак и щелкнул три раза зажигательным механизмом, пока он не разгорелся. Фабий отрегулировал поток газа, и предназначенное для резки листовой стали пламя заострилось, превратившись в конус раскаленного до синевы света.
Юлий Кесорон навис над Фулгримом и сказал:
– Это твой последний шанс, демоническое отродье. Убирайся из тела моего примарха, и тебе не придется страдать.
– Я приветствую страдание, – оскалился Фулгрим.
Кесорон кивнул, и Фабий поднес пламя к ступне Фулгрима.
Плоть свернулась и потекла, словно расплавленная резина, уничтожаемая невероятным жаром. Фулгрим выгнул спину и широко раскрыл рот в беззвучном крике; вены и сухожилия на его шее вздулись, как края столкнувшихся тектонических плит.
На глазах Люция из-под плавящейся, отслаивающейся кожи показалась кость, сначала белая и блестящая, но уже через мгновение начавшая чернеть. Костный мозг сгорал с громким шипением, как жир, а запах жженной плоти оставлял в горле насыщенный мясной привкус. Люций и раньше нюхал и пробовал человеческое мясо, но то была скудная трапеза, сейчас же его ждал эпикурейский восторг.
Он заметил, что на остальных запах действовал похожим образом.
На расплавленном лице Кесорона смягчились острые углы, а Вайросеану лишь усилием воли удавалось оставаться на ногах. Только Фабий выглядел равнодушным, но Люций предположил, что тому уже довелось насладиться зрелищем и запахами примарховского тела, когда он исследовал его божественную природу. Фабий поводил огнем по ступне Фулгрима, пока от ноги ниже щиколотки не осталась лишь черная масса сплавившейся кости и вскипевшего костного мозга, который стекал на плиточный пол апотекариона.
Юлий Кесорон взялся за обугленную кость.
– Эти страдания можно прекратить, – сказал он, с примечательной быстротой возвращая контроль над собой. Люций облизнул губы, все еще наслаждаясь восхитительно глубоким ароматом сожженной плоти Фулгрима.
Фулгрим поднял взгляд на Кесорона и напряженно улыбнулся:
– Страдания? Что ты знаешь о страданиях? Ты – воин, который сражается, когда я приказываю ему сражаться, инструмент для исполнения моих желаний, не более. Ты не страдаешь и не имеешь права говорить о страдании тем, кто с ним знаком.
– Я решил не страдать, – ответил Кесорон. – Достаточно сильный человек владеет своими чувствами, так что невозможно заставить его страдать. Страдать от боли и унижения – значит потерять контроль. Значит поддаться человеческим слабостям. Я достаточно силен, чтобы противостоять страданию.
– В таком случае ты еще глупее, чем я считал, Юлий, – сказал Фулгрим. – Откуда, по-твоему, рождается сила, если не из страдания? Силу тебе даруют тяготы и лишения. Те, кто никогда не знал настоящего страдания, не могут быть столь же сильны, как те, кто познал его. Человек должен быть слабым, чтобы страдать, и эти страдания сделают его сильнее.
– Тогда ты станешь воистину могущественным, когда мы с тобой закончим, – пообещал Вайросеан.
Фулгрим засмеялся.
– Боль – это истина, – сказал он. – Страдание – это конец кнута, отсутствие страдания – рукоять, которую хозяин держит в руке. Любой акт страдания – это испытание любви, и я докажу вам это, снеся любую боль, какую вы только сможете мне нанести, потому что я люблю вас всех.
– Это не слова Фулгрима, – прорычал Кесорон. – Это сладкая ложь, призванная ослабить нашу решимость.
– Ты неправ, – ответил Фулгрим. – Все, что я узнал после того, как лишил своего брата жизни, доказывает бесспорность этого. Все во вселенной связано невидимыми нитями – даже те вещи, которые мы считаем противоположными друг другу.
– Откуда тебе знать? – спросил Люций. – Лорд Фулгрим любил красивое и чудесное, но его едва ли можно было назвать философом.
– Нельзя любить красивое и чудесное, не будучи философом сердца, – ответил Фулгрим, разочарованно покачав головой. – Я заглянул в само сердце варпа и знаю, что во вселенной происходит непрерывная борьба противоположностей – света с темнотой, жары с холодом и, разумеется, страдания с удовольствием. Представьте себе экстатическое удовольствие и немыслимую боль. Они взаимосвязаны, но не являются одним и тем же. Боль можно испытывать, не страдая, а страдание возможно без чувства боли.
– Согласен, – сказал Кесорон. – Но к чему ты ведешь?
– Все, чему нас учит боль, – например, тот факт, что огонь обжигает и может быть опасен, – всегда индивидуально, но то, что я познал в страдании, объединяет нас как путешественников по дороге невоздержанности и открывает нам двери в храм мудрости. [1] Боль без страдания – как победа без борьбы, одна бессмысленна без другой. Но в конечном итоге настоящее страдание можно измерить лишь по тому, что мы потеряли.
– Тогда мы страдаем сейчас, – сказал Вайросеан. – Ибо мы лишились своего возлюбленного повелителя.
Люций отвернулся от Вайросеана с его слащавой сентиментальностью и нахмурился, обратив внимание на изуродованную ногу Фулгрима. Плоть сгорела, но поверх кости начала образовываться тонкая полупрозрачная пленка; сама же кость постепенно теряла облик сплошной стекловидной массы, в которую превратилась под огнем. Нога Фулгрима приобрела маслянистую текстуру, казавшуюся новой и сырой – как у змеи, едва сбросившей кожу, – и пока не принявшей окончательный вид.
– Смотрите, – сказал Люций. – Он излечивается. Нельзя останавливаться.
Фабий, отняв взгляд от лица Фулгрима, с академическим интересом взглянул на заживающую ногу, а Кесорон и Вайросеан между тем выбрали себе орудия пыток. Боевые капитаны встали по бокам от Фулгрима и обратили инструменты против связанного примарха: Кесорон обжимными клещами дробил ему костяшки пальцев, а Вайросеан с каждым движением рубанка отрывал с его груди длинные полоски кожи.
– Ооо, – улыбнулся Фулгрим. – Воистину, бремя счастья может облегчить лишь бальзам страдания... [2]
От запаха его крови Люцию страстно захотелось взяться за шило или молот, но выражение в глазах примарха остановило его. Пытки, которым подвергали его Кесорон и Вайросеан, смертного превратили бы в бессознательного безумца, но Фулгриму, судя по всему, ощущения нравились.
Их взгляды встретились, и Фулгрим сказал:
– Вперед, Люций, возьми какой-нибудь из инструментов Фабия. Заставь мою плоть кричать!
Люций покачал головой и скрестил руки на груди, чтобы не сделать того, чего хотел от него Фулгрим.
– Ты уверен? – улыбнулся Фулгрим. – Ты лучше этих глупцов знаешь, что если не поддаться искушению, позже будешь только сожалеть.
– Не спорю, но мне кажется, что любое существо, достаточно могущественное, чтобы захватить контроль над телом Фулгрима, будет достаточно могущественно, чтобы без особого напряжения вынести любую боль и страдание.
– Как проницательно с твоей стороны, сын мой, – сказал Фулгрим. – Должен признать, все это меня, конечно, немного развлекает, но боль для меня – не более чем раздражитель. Во всяком случае, такая боль, которую вы можете причинить.
Кесорон оторвался от нанесения увечий и посмотрел на Фабия.
– Оно говорит правду?
Фабий обогнул раму, с возрастающим недоумением изучая биоритмические показатели Фулгрима. Люций не был апотекарием, но даже ему их этих данных было ясно: они могли бы декламировать примарху стихи, и эффект был бы тем же.
Вайросеан отбросил кожный рубанок, и стеклянный цилиндр в затененном алькове разбился. На пол апотекариона вылились токсичные жидкости, дымящиеся как кислота, в которых содержалась груда неизвестных пульсирующих органов, приращенных к относительно гуманоидному носителю. Чем бы это создание ни было, оно лишь мгновение билось в конвульсиях, прежде чем его убогое существование оборвалось.
Фабий опустился на колени рядом с поблескивавшими останками и бросил на Вайросеана ядовитый взгляд.
Марий не обратил внимания на его гнев и схватил Фулгрима за голову, склонившись над ним, словно для поцелуя. Однако вместо этого он ударил Фулгрима головой о раму и издал полный горестной ярости вопль, от которого Люция и Кесорона сбило с ног.
Вопль отразился по всему помещению, как звуковой удар от низко пролетевшей «Грозовой птицы», и все, что было в нем стеклянного, разбилось. Тысячи осколков полетели на пол с пронзительным звоном.
– Ты порождение зла! – закричал Вайросеан. – Убирайся прочь, или я оторву эту голову с плеч. Я скорее дам Фулгриму умереть, чем позволю тебе владеть его телом еще хоть мгновение!
Люций поднялся на ноги, покачиваясь от звуковой атаки, а Фабий бросился на Вайросеана и оттащил его от Фулгрима.
– Идиот! – выругался Фабий. – Твоя бездумная ярость погубила месяцы экспериментов!
Вайросеан проигнорировал обвинения апотекария и сжал кулак, собираясь превратить его в кровавое месиво.
– Марий! – крикнул Фулгрим. – Стоять!
Преданность, укоренявшаяся на протяжении десятилетий, заставила Мария Вайросеана замереть, и вновь Люций был вынужден напомнить себе о железной хватке власти, которой примархи обладали по природе своей. Даже его, не отличавшегося уважением к авторитетам, слова примарха парализовали.
– Ты говоришь, что я зло, но как ты определяешь, что добро, а что зло? Разве не сам человек придумал эти понятия, чтобы оправдывать свои действия? – спросил Фулгрим. – Подумай, как следует оценивать добро и зло, и ты поймешь, что то, чем я являюсь, то, чем я становлюсь – воплощение совершенной красоты. Воплощение добра.
Люций приблизился к стальному столу и посмотрел на примарха сверху вниз, чувствуя, что его слова полны мудрости, которую он пока не мог понять, но от которой могло зависеть его будущее. Он взял шило с длинным загнутым кончиком и погрузил его в грудь Фулгрима, сквозь еще не зажившую полностью рубцовую ткань. Фулгрим поморщился, когда металл пронзил его плоть, но Люций не мог определить, какое чувство скрывалось за этим выражением.
– И во что же ты превращаешься? – спросил он.
– Ты задаешь неправильный вопрос, – ответил Фулгрим, пока Люций дюйм за дюймом погружал в него стальное шило.
– Тогда какой правильный?
Марий и Юлий наклонились поближе, пока Фабий ругался из-за месяцев потерянных трудов, заливавших пол и пенившихся у его ног.
– Правильный вопрос: к чему движется вселенная? А ответить на него можно, лишь поняв, откуда мы родом.
Марий последовал примеру Люция и выбрал один пыточный инструмент из коллекции, разложенной Фабием. Он повертел в руках грушевидное устройство и повернул винт на рукояти, отчего лепестки груши раскрылись. Удовлетворившись этим, он вернул устройство в первоначальный вид и опустился под раму, чтобы поместить его между ног примарха.
– Мы родом с Терры, – сказал Марий. – Ты это имеешь в виду?
Фулгрим снисходительно улыбнулся и ответил:
– Нет, Марий. Раньше Терры. Настолько раньше, насколько это вообще возможно.
Марий пожал плечами и, закряхтев, вставил устройство на место, а Юлий взял несколько серебряных стержней – разной длины, но одинаково заостренных с одного конца. Он воткнул в Фулгрима семь игл, одну за другой, образовав линию от макушки до паха. По мастерской аккуратности, с которой Кесорон этим занимался, было очевидно, что приспособление ему знакомо. Люцию подумалось, что он, возможно, выбрал не самый удачный инструмент, когда имелись такие орудия агонии, но, погрузив шило глубже в нечеловеческие, неведомые органы Фулгрима, решил, что ему нравится эта простота.
Фулгрим внимательно наблюдал за Кесороном – так гордящийся наставник наблюдает за учеником, впервые отправившимся в самостоятельный полет. Примарх покачал головой, когда Кесорон выпрямился, и заметил:
– Юлий, игла в Свадхистане введена немного неточно. Возможно, из-за присутствия инструмента, который выбрал Марий. Стоит поместить ее чуть выше.
Кесорон наклонился и, увидев, что Фулгрим прав, изменил положение иглы. Никак это не прокомментировав, он протянул медные провода от концов всех игл к ряду рокочущих генераторов, щелкнул переключателем, и помещение заполнил низкий, басовый гул энергии, а на проводах затрещали дуговые разряды высокого напряжения.
Фулгрим стиснул зубы, в черных омутах его глаз заплясали запертые молнии. Кожа его потемнела, и Люций почувствовал резкий электрический запах сгорающего изнутри тела.
Терпя боль, которой хватило бы на бессчетные смертные жизни , Фулгрим продолжил:
– Вселенная началась в простоте, с неизмеримо быстрого расширения. И в первые мгновения своей жизни она была столь ошеломляюще проста, что мы даже приблизительно не можем себе этого представить. Но через некоторое время ее простые элементы начали сцепляться, объединяться в более сложные формы. Частицы образовали атомы, а атомы образовали молекулы, и сложность все возрастала, пока не образовались первые звезды. Миллионы лет эти новорожденные светила жили и умирали во взрывах, своей смертью давая жизнь новым звездам и планетам. Мы с вами – чудесные создания, выкованные из звездных сердец.
– Поэтично, но какое отношение это имеет к добру и злу? – спросил невольно заинтригованный Кесорон, регулируя ток, идущий через серебряные иглы. Люция это удивило, поскольку он всегда считал, что первого капитана интересует лишь то, как удовлетворить свои желания и как причинить врагу наисильнейшую боль.
– Я к этому веду, – пообещал Фулгрим, и Люций был вынужден напомнить себе, что они в данный момент его пытали, и что пришли они сюда не ради лекций о природе вселенной. Он хотел заговорить, но Фулгрим продолжил, не дав ему этого сделать.
– Эти объединения не случайны, – пояснил Фулгрим. – Они проистекают из природы вселенной, из ее стремления к сложности. О... да, Марий, это восхитительно, поверни винт еще раз! Итак, как я начал говорить, все сущее участвует в этом цикле, строясь и объединяясь, – от примитивнейшего из существ до самого высокоорганизованного сознания. В подходящих условиях все будет клониться к тому, чтобы стать красивее, совершеннее, сложнее. Так было с мгновения, когда наша вселенная началась, уйти от этой природы нельзя, как нельзя и остановить ее.
Люций кивнул и повернул шило, воткнутое в тело Фулгрима, по широкому кругу.
– И куда все это ведет? Что лежит в конце пути от простого к сложному?
Фулгрим дернул плечами, но невозможно было определить, сознательный ли это жест или реакция на ток, сжигающий ему кости.
– Кто знает? Одни называют это божественностью, другие – Нирваной. Я, за неимением лучшего слова, называю это совершенной сложностью. Это конечная цель всего – неважно, осознает ли оно, какова его роль во вселенной, или нет. И вопрос о добре и зле неразрывно связан с этим вечным движением к совершенной сложности. А ответ прост.
Фулгрим умолк, выгнул спину, и из угла его рта потекла струйка крови. Люцию хотелось верить, что боль вызвало его шило, проткнувшее Фулгрима до позвоночника, но пыточному искусству предавались все три воина, так что уверенности у него быть не могло.
Фабий обошел раму, с возрастающим беспокойством наблюдая за жизненными показателями Фулгрима.
– Вы его убиваете, – предупредил он. – Одному из вас надо прекратить.
– Нет, – ответил Марий. – Боль изгонит это демоническое существо. Оно скорее отпустит Фулгрима, чем позволит себя убить.
– Глупец! – крикнул Фабий. – Неужели ты думаешь, что таким созданиям, как демоны, что-то сделает уничтожение их смертного носителя? Если ты разрушишь физическую оболочку, их сущность просто вольется в варп.
– Тогда что мы тут делаем? – рявкнул Люций. Вновь чувствуя, что за обеспокоенностью апотекария о Фулгриме кроется какой-то сговор, он бросил шило, схватил Фабия за горло и сдавил трахею, прилагая достаточно усилий, чтобы у апотекария вылезли из орбит глаза.
– Ты не способен нанести вред этому демону, – прохрипел Фабий, – но если причинишь достаточно сильную боль, полагаю, возможно будет заставить его отпустить тело.
– Полагаешь? Возможно? – переспросил Кесорон. – В твоих словах нет уверенности.
Люций почувствовал укол в области паха и, опустив взгляд, увидел кабель в спиральной обмотке, из ржавого металла и жилистых хрящей, показавшийся из-под освежеванной кожи апотекарского плаща. Шприц, наполненный непрозрачной розовой жидкостью, проколол гибкое сочленение на бедре, и игла на пару сантиметров вошла в ногу.
Фабий по-змеиному улыбнулся:
– Еще раз меня тронешь, и в тебе окажется столько Вите Ноктис, что на истребление боевой роты хватит.
Люций с большой неохотой отпустил апотекария, и холодная металлическая игла вышла из его плоти. Хотя ему хотелось броситься на Фабия и сломать ему шею, он не мог удержаться от ухмылки, вызванной близостью смерти.
Фабий заметил его улыбку и сказал:
– Всем это кажется забавным, пока эликсир не оказывается в организме. Следующие шесть ударов сердца это волшебно. А потом ты мертв, и мира ощущений больше нет. Помни об этом в следующий раз, когда решишь выместить на мне свой гнев.
Кесорон оттолкнул их друг от друга:
– Довольно. У нас есть важное дело. Апотекарий, можем мы изгнать демона с помощью боли? И отвечай прямо.
Фабий ответил, не сводя взгляда с Люция, который встретил его враждебность со спокойной безмятежностью, поскольку был уверен, что это разозлит апотекария.
– Не могу, – сказал он. – Любое смертное тело будет уничтожено задолго до того, как мы дойдем до черты, за которой демон утратит контроль. Но тело примарха должно быть способно выдержать до того переломного момента, когда боль станет достаточно сильна, чтобы изгнать демона.
– Тогда, очевидно, пришло время использовать нейронного паразита, – сказал Марий. – То устройство, которое ты создал из капитанов-гибридов Диаспорекса.
Фабий согласно кивнул, и Люций понял, что апотекарий только и ждал, пока представится эта возможность. Наклонившись, он надел серебристый металлический полушлем на Фулгрима и подсоединил к устройству длинные тонкие провода из прозрачного пластика. Вившиеся по полу провода вели к гудящей машине, изобретатели которой, судя по ее виду, не имели никакого отношения к людям. От нее исходила сложная последовательность огней и звуков, выходивших за пределы восприятия у смертных, а прозрачные провода на глазах Люция наполнялись переливающейся, похожей на ртуть жидкостью, которая нетерпеливо пульсировала по направлению к примарху.
– Уж надеюсь, что это сработает, – сказал Кесорон, толкая Фабия в грудь. – Если ты солгал, никакие твои зловонные эликсиры не помешают мне тебя убить.
Сияющая жидкость вошла в тело Фулгрима, и с его полных губ сорвался выдох сластолюбца, испытывающего ранее невообразимое ощущение. Он распахнул глаза и посмотрел по сторонам – как сморит человек, пробудившийся от золотых воспоминаний о полузабытых друзьях и прошлых возлюбленных.
– О, сыны мои, – произнес он так, будто боль от пытки была для него не более чем нежным касанием бабочкиных крыльев. – На чем я остановился?
Из-за крови его плоть блестела, как закутанная в алые шелка, а из всех отверстий шел резкий запах жареного мяса. От серебряных игл, выступающих из тела, шел жар, а таз отогнулся вверх под неестественным углом из-за жуткого устройства, раскрытого Марием.
– Ты говорил о добре и зле, – ответил Люций, берясь за простую деревянную рукоять шила и проталкивая его глубже.
– О, как мастерски ты с ним обращаешься, – сказал Фулгрим. – Небольшим оружием ты владеешь не хуже, чем крупным.
– Я тренируюсь, – ответил Люций.
– Я знаю, – сказал Фулгрим.
– Работает? – спросил Кесорон Фабия, производившего различные манипуляции над голографическими шкалами и жидкостными манометрами с помощью подкожных ксеносских сенсоров.
– Да, – подтвердил апотекарий. – Я могу изменять биохимические параметры его мозга, чтобы заставлять его видеть и чувствовать то, что я хочу. Скоро мы будем управлять его разумом.
Фулгрим засмеялся, потом зарыдал, его тело содрогнулось в агонии, после чего задрожало от величайшего удовольствия. Он закричал при виде несуществующих ужасов и облизнул губы, когда немыслимые вкусы переполнили его чувственное восприятие.
– Что с ним происходит? – спросил Марий.
– Я захватываю контроль, – ответил Фабий, явно наслаждаясь возможностью управлять столь поразительным образчиком совершенства, невозможного для простой генной инженерии. – Вы даже вообразить себе не можете, как сложен его разум, – это миллион вложенных друг в друга лабиринтов. Разобраться в его связях совсем не просто.
– Подчиняй его быстрей, – приказал Кесорон.
Фабий проигнорировал угрожающий тон и начал вносить множество изменений в состав жидкости и ход работы устройства – совершенно непонятных со стороны, так что Люций не знал, что апотекарий меняет и как это может повлиять на примарха. По всей его коже вздувались вены, и было очевидно, что Фулгрим не собирался отдавать Фабию контроль над собой без борьбы.
На лице Фулгрима отражалась борьба тысяч эмоций и чувств, и Люция охватила зависть при мысли о вмешательстве этой машины. Каково это: позволить чужой руке вести его разум по вселенной ощущений? Но едва представив себе это путешествие, он сразу понял, что слишком эгоцентричен, чтобы позволить кому-либо контролировать его плоть.
Наконец Фулгрим расслабился и с довольным, облегченным вздохом откинулся на раму, опустив конечности на холодный металл. Фабий победно ухмыльнулся, обнажив пожелтевшие зубы и блестящий змеиный язык.
– Он мой, – сказал он. – Что прикажете делать, первый капитан?
– Можешь заставить его говорить правду?
– Разумеется, это простая операция, – ответил Фабий.
Легкость, с которой Фабий заверил в этом Юлия, заставила Люция нахмуриться; его удивляло, как быстро апотекарий якобы разобрался в том, что ранее называл едва ли не невозможным. Он вытащил шило из Фулгрима и, обойдя раму, встал рядом с Фабием. Неважно, что у него есть Вите Ноктис; Люций убьет апотекария, если выяснится, что тот им лгал.
Лица на длинном плаще апотекария искажались, словно их покачивали ледяные волны, и беззвучно вопили, моля Люция положить их страданиям конец. Но мечник не обращал на них внимания: он продумывал, куда будет лучше нанести удар шилом, если потребуется убить Фабия.
Апотекарий, казалось, забыл о Люции; он касался пальцами прибора ксеносов, как маэстро касается клавиш храмового органа. Фулгрим на раме дергался в конвульсиях и растягивал губы в безумной улыбке, чувствуя, что с ним делают.
– О, сыны мои... – выдохнул примарх. – Вы хотите знать правду? Как же вы простодушны. Разве вы не понимаете, что нет ничего опасней правды?
– Тебе недолго осталось, демон, – прорычал Марий. – Тебе не место в нашем легионе. Ты порождение зла.
Фулгрим засмеялся:
– Ах, Марий, ты продолжаешь называть меня порождением зла, но это слово ничего не значит, если ты не понимаешь, что на самом деле олицетворяют добро и зло. Хорошо, ты хочешь правды? Я скажу тебе правду. Если ты признаешь, что вселенная беспрестанно движется к финальному состоянию совершенной сложности и что этот итог неминуем, то все, что задерживает этот процесс, следует определять как зло. По этой же логике все, что ускоряет это непрерывное путешествие, безусловно, является добром. Я движусь к совершенной сложности, а вы, препятствуя моему вознесению, служите злу. В этой комнате лишь я один воплощаю добро!
– Ты пытаешься сбить нас с толку нелепыми разговорами о природе вселенной, добре и зле, – прошипел Марий. – Но я знаю, что такое зло, и я гляжу на него.
– Ты глядишь на себя, Марий Вайросеан, – сказал Фулгрим. – Неужели ты до сих пор не увидел правду?
– Правду о чем?
– Правду обо мне!
Люций отодвинулся от рамы: бицепсы Фулгрима неожиданно налились силой, и он сорвал фиксаторы, крепившие к раме правую руку. Через мгновение его левая рука тоже оказалась свободна, и примарх сел прямо, избавляясь от введенных под кожу игл и биодатчиков, которые Фабий закрепил на нем перед пытками.
Фулгрим отшвырнул Мария и со скорбным вздохом выдернул раскрытое устройство, с которым работал третий капитан. Оно упало на пол апотекариона с влажным стуком и покатилось, напоминая липкий цветок из запятнанного красным железа.
– Жаль, – сказал Фулгрим. – Это начинало мне нравиться.
Примарх спустил ноги с рамы, разломав оковы, фиксировавшие его лодыжки и бедра, с легкостью, с какой проснувшийся ребенок сбрасывает одеяло. Юлий Кесорон бросился к Фулгриму, собираясь удержать его, но его отбросили в сторону, небрежно ударив тыльной стороной руки. Фабий попятился, но Люций остался на месте: он понимал, что бежать бессмысленно.
Теперь он понял, как слепы они были и как наивны. Неужели они поверили, что способны побороть примарха? Им это удалось лишь потому, что Фулгрим этого хотел – хотел, чтобы они очутились здесь. Фениксиец провидел сомнения своих воинов и привел их в это место, к этому моменту, дабы явить им свою истинную сущность.
Фулгрим с улыбкой повернулся к нему. И в это мгновение Люций осознал истину, скрывавшуюся за всем, что Фулгрим говорил и делал со времен Исствана. Он увидел понимание в глазах примарха и упал на колени.
– Молишь о пощаде, Люций? – спросил Фулгрим. – Я был о тебе лучшего мнения.
– Не молю, повелитель, – ответил Люций, не поднимая склоненной головы. – Чествую.
Юлий Кесорон с трудом поднялся на ноги; на его активировавшемся кулаке замерцали фиолетовые молнии. Марий Вайросеан вскинул звуковую пушку и раскрыл рот, намереваясь выпустить шквал грома и ударных волн, который уничтожит в комнате все.
– Теперь ты знаешь? – спросил Фулгрим.
– Знаю, – подтвердил Люций. – Мне всегда следовало знать, что вы никогда не подчините свою волю другому. Если я этого никогда бы не сделал, почему вы должны?
– О чем ты болтаешь, мечник? – спросил Кесорон. – Ты предал нас этому демону?
Люций покачал головой и усмехнулся неспособности Кесорона увидеть истину, которая теперь должна была быть очевидна.
– Нет, – сказал он. – Не предал, ибо я был неправ.
– Насчет чего? – спросил Кесорон, поднимая кулак для удара.
– Насчет меня, – ответил Фулгрим вместо него.
– Это лорд Фулгрим, – сказал Люций. – Наш лорд Фулгрим.
[1] «Бракосочетание рая и ада», У. Блейк.
[2] Предыдущие три реплики Фулгрима с некоторыми изменениями и вставками цитируют «Шантарам» Г. Д. Робертса.
14
Фулгрим вышагивал по сцене «Ла Фениче» с актерской театральностью – как персонаж трагедии, произносящий последний монолог, после которого опустится занавес. Люций смотрел на него наметанным взглядом, видел изящную легкость его совершенных движений и поражался тому, что так долго был неспособен осознать скрывавшуюся за ними истину. При виде Фениксийца, вновь облаченного в пурпурно-розовую броню, в груди зажигался огонь; это был бог-воин, идеально гармоничный и сияющий.
На нем не было видно и следа ран и унижений, нанесенных ему в апотекарионе, и Люций восхитился невероятной мощью его тела, способного снести те ужасы и излечить все повреждения. Воистину, Фулгрим был богом, достойным почитания.
Первый капитан Юлий Кесорон стоял плечом к плечу с Люцием, Марий Вайросеан же держался в стороне от них: от стыда ему хотелось избежать чувства разделенной ими вины. Но эту вину испытывал лишь он один, ибо Люций не жалел о содеянном. Они пытались спасти своего примарха и, если быть честным, утолить непрекращающуюся жажду новых ощущений. Им не за что было себя винить – если уж принимать чудесные истины, которые открылись им после Исствана-III.
К ним присоединились Калимос и Абранкс; они были поражены, услышав о том, что выяснилось в апотекарионе, – об открытии, известном лишь им одним во всей галактике. Крисандр стоял с трудом, и раненого капитана поддерживал Руэн; его плечо покрывала искусственно выращенная плоть, а поврежденный организм только начал принимать имплантированные кости.
Фулгрим остановился под невыразительным портретом, украшавшим стену напротив Гнезда Феникса, и Люций заметил таинственную улыбку, в слабом изгибе которой скрывался смысл целых жизней.
– Вы имели все основания подозревать, что я не был собой, – сказал Фулгрим, наконец удостаивая их взглядом. – Убив Горгона, я оборвал последнюю нить, связывавшую меня с былой жизнью, с прошлым, которое теперь для меня ничего не значит. А столь значительные свершения всегда влекут за собой последствия.
Фулгрим опустился на пол сцены, словно вспоминая, как умер Феррус Манус. Он сжал кулаки, уставившись в никуда, и Люций видел, что перед его глазами вновь возник кровавый парад Исствана-V.
– Я оказался уязвим, – сказал Фулгрим, встав и продолжив вышагивать по сцене. – Слуга Темного Принца захватил меня ради забавы. Это было древнее существо, жадное и своенравное. Оно наслаждалось украденным, и некоторое время я позволял ему контролировать свое тело – пока больше узнавал о нем и о его силах. Полагаю, оно надеялось, что меня сломит смерть брата...
Фулгрим усмехнулся и посмотрел на свои ладони так, будто на них все еще была кровь убитого примарха Железных Рук.
– Он ошибался. В конце концов, именно он научил меня потакать своим прихотям и жить, не зная запретов и чувства вины. Что мне стоило предать еще раз? К тому моменту Манус уже был лишь полузабытым воспоминанием, призраком, который с каждой секундой все больше расплывался в воздухе, а то, что я узнал от существа, сделало меня только сильнее. Вскоре я с легкостью вернул себе тело и заточил его в тюрьму, созданную для меня самого.
Люций с трудом отвел взгляд от своего великолепного примарха и посмотрел на портрет. Его линии не ослабли, его цвета не потускнели, но теперь, когда Люций знал правду, он видел в нем бесконечную боль бессмертного, призрачного создания, заточенного в вечном бездействии. Не могло быть большей муки для того, кто когда-то обладал безграничными возможностями, и его восхищение гениальностью примарха разгорелось еще ярче.
– Теперь вы знаете правду, сыны мои, – сказал Фулгрим, спускаясь к ним со сцены. Он раскинул руки в стороны и, проходя мимо них, коснулся каждого. – Непросто служить господину, который требует от нас так много и так много дарует взамен. Мы должны зайти в своих желаниях дальше, чем кто-либо, испытать все, даже то, что кажется отталкивающим. Не будет таких жертв, таких пороков, таких блаженств, от которых мы бы отказались. Я могу вам такое показать, сыны мои. Тайны и силы за пределами понимания, истины, скрытые с начала времен, путь к божественности, в конце которого я засияю ярче, чем тысяча солнц!
Фулгрим развернулся на каблуках, когда его воины радостно зашумели. Он упивался их обожанием, а их беззаветная любовь заставляла его светиться, как звезда, что дала им жизнь. Наконец он опустил руки и окинул всех их взглядом с благожелательностью и отеческой любовью, со строгостью и непреклонностью.
– Мне еще многое нужно сделать, прежде чем я удостою Хоруса Луперкаля своим присутствием на грязной поверхности Терры, – сказал Фениксиец. – Моя первая задача – присоединиться к своему брату-олимпийцу и заставить его строителей и крепостных стражей работать для исполнения моей цели.
– Какой цели? – спросил Юлий Кесорон, рискнув навлечь на себя гнев примарха вопросом.
Фулгрим провел рукой по снежно-белым волосам и улыбнулся, но Люций понимал, что это был лишь мимолетный приступ снисходительности. Примарх не потерпит дальнейших вопросов. Не сейчас, не в момент его торжества.
– Нам предстоит построить город, – сказал он. – Великолепный город зеркал, город миражей, одновременно незыблемый и текучий, одновременно из воздуха и из камня. [1]
Пульс Люция участился при мысли о подобном городе – о метрополисе, в котором каждое здание, каждая башня, каждый дворец будут тысячекратно воссоздавать перед ним его собственный облик. Теперь он понял, зачем была нужна атака на Призматику: для сбора материалов, с помощью которых построят эти чудесные зеркальные конструкции.
– Город зеркал, – прошептал он. – Это будет восхитительно.
Фулгрим шагнул к мечнику и обхватил его лицо ладонями, словно возлюбленный.
– Лучше, чем восхитительно, – сказал Фулгрим, склоняясь к Люцию и целуя его в покрытые шрамами щеки. – Ибо в глубине его бесчисленных отражений я встречусь взглядом с Ангелом Экстерминатусом, и галактика возрыдает, узрев его ужасную красоту!
[1] Эрика Йонг, о Венеции.