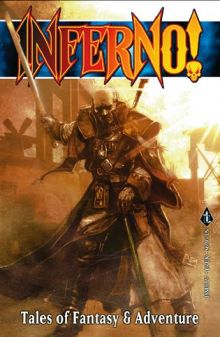Тотентанц / Totentanz (рассказ)
Гильдия Переводчиков Warhammer Тотентанц / Totentanz (рассказ) | |
|---|---|
| Автор | Брайан Крейг / Brian Craig |
| Переводчик | трерук |
| Издательство | Black Library |
| Входит в сборник | Истории Старого Света / Tales of the Old World (сборник) |
| Источник | Inferno! #27 |
| Год издания | 2001 |
| Подписаться на обновления | Telegram-канал |
| Обсудить | Telegram-чат |
| Скачать | EPUB, FB2, MOBI |
| Поддержать проект
| |
Повелители смерти имеют лишь одну явную цель, которая состоит в том, чтобы собирать армии скелетов, зомби, духов и гулей и сражаться с живыми. Среди живых философов преобладает мнение, что повелитель смерти чрезвычайно глупы, а усилия их по своей сути напрасны. Они базируют свои суждения на том, что живые существа умирают достаточно рано, в битве или в своих постелях, тогда как мёртвые и без того уже слишком многочисленны, и сколь-нибудь срочная потребность в пополнении их рядов попросту отпадает. Однако и среди мёртвых находятся философы, которые находят некоторое удовольствие в разрешении подобного рода парадоксов. Они утверждают, что продолжительность жизни несущественна в сравнении с тенденцией её развития, и если жизнь является лишь одной из ступеней в длинной лестнице развития души, а это, несомненно, доказывается наличием армии мёртвых, то способ, которым живущий вступает в состояние смерти, значит очень многое. Не менее важно, по мнению философов-мертвецов, и то, как живые готовятся к смерти, и варианты будущего, что планируются для них после смерти.
Философы живые имеют обыкновение утверждать, что ключевым пунктом в философии является вопрос «как человек должен жить?» Мёртвые, вполне естественно, считают иначе. Если бы их мир был простым отражением живого, то основополагающим пунктом для них стал бы вопрос «как люди должны умирать?», однако это не так. Они занимают более прагматическую позицию, которая, к тому же, ещё и весьма запутанна, основываясь на том, что даже самые энергичные мертвецы, коих многие, ставшие жертвой вполне понятного замешательства, зовут «ожившими», по сути, мертвы. Они предпочитают ставить вопрос следующим образом – «как мёртвые могут поспособствовать живым вкусить уготованные смертью дары?» – и именно здесь в уравнении возникают повелители смерти и Императоры некромантии.
Несмотря на то, что в баталиях между армиями живых и мёртвых первые склонны видеть проявление ожесточённой борьбы двух противоположностей, среди мёртвых подобным образом рассуждают лишь самые слабоумные. Философски настроенные мертвецы полагают, что такие конфликты являются совершенно естественным взаимоотношением «мертвых, но активных» и «активных, но пока не мёртвых», в котором первые стремятся заключить последних в объятья и посвятить их в тайны своего нынешнего состояния. Таким образом, с точки зрения мёртвых философов крестовые походы, проводимые их лордами, суть не просто военные действия, но акты весьма увлечённого воспроизводства себе подобных, которые могли бы стать не менее волнующими, чем те, в которых участвуют живые, если бы последние не настаивали на выкрикивании в процессе слова «нечестивцы!». А принимая во внимание, что среди солдат живых ещё не встречалось тех, чьи факультативные увеселения не вызывали бы многочисленных воплей со стороны напуганных женщин, можно было бы ожидать от людей большего понимания – однако тупыми могут быть не только мёртвые.
Повелители Смерти в основной своей массе – личности практические, увлечённые больше массовыми убийствами, нежели самоанализом. Однако находятся и те, которые видят в этих предрассудках настоящее бедствие и твёрдо уверены, что стоит только мёртвым попытаться, они могли бы сделать гораздо больше для того, чтобы помочь живым осознать преимущества смерти и, таким образом, сделать их более восприимчивыми к неизбежной кончине.
Величайшим из Императоров некромантии является, конечно же, Нагаш, Верховный повелитель смерти, зачинатель Великого Пробуждения. Он был рождён в Кхемри, самом величественном из городов древней Неехары, там во времена Великого крестового похода против живых он пробудил Царей Гробниц от долгого сна, дабы они стали его апостолами. Сейчас он обитает в Нагашиззаре, в Проклятой штольне.
Живые и помыслить не могут, насколько многочисленны Цари Гробниц и насколько они разнятся меж собой. Что же до царств, основанных ими в безжизненной пустыне, которая лежит меж Болотами Безумия, Чёрной башней и городом Катар, то они столь же многочисленны и не менее разнообразны. И хотя нельзя отрицать того факта, что значительная их часть настроена отнюдь не философски и умственно одарена весьма скудно, существуют и такие, что в значительно большей степени интересуются философскими материями. Более того, среди них есть кое-кто, кто увлечён подобными вопросами насколько серьёзно, что ставит перед собой задачи, которые большинство его собратьев почитают в некоторой степени ересью. Имя ему Кимейез, Лорд некрополя Зелебзель.
Кимейеза никак нельзя назвать миролюбивым существом, и он, разумеется, активно участвовал в Великом крестовом походе. Зелебзель расположен далеко на западе Царства мёртвых, в пустыне, на границе, отделяющей Царства от Аравии, и его армиям не раз предоставлялась возможность встретиться с врагом. Не будет лишним упомянуть и тот факт, что армии аравийских владык также вели завоевательные кампании, и Зелебзель не раз принимал на себя главный их удар. Нагашу никогда не выпадало повода усомниться в рвении, с которым Кимейез вёл военные действия и отражал набеги врагов. Это, конечно же, объясняет, почему Верховный повелитель смерти всегда смотрел сквозь пальцы на случающиеся время от времени выходки своего верного слуги – также, возможно, именно это стало причиной того, почему Нагаш, пусть едва заметно, но поощряет попытки Кимейеза наладить более прочные мостки между Жизнью и Смертью.
Одной из причуд Кимейеза была привычка брать пленных, к чему прочие повелители, как правило, не расположены. Мёртвые практически не нуждаются в живых рабах, и их нисколько не интересуют плотские отношения с живыми, поэтому для повелителей смерти нет причин держать своих врагов в плену. Кимейез составляет исключение, поскольку он философ и находит немалую приятность в ведении философского диспута с живым существом – хотя, стоит заметить, ему чрезвычайно редко удаётся найти среди сотни беспорядочно набранных пленников того, кто смог бы, превозмогая свой страх, принять участие в сколь-нибудь грамотном споре. Поэтому только представьте его радость, когда он вернулся очередного из рейда в аравийскую землю с прославленным визирем по имени Амаймон, который путешествовал вместе с верблюжьим караваном из одного эмирата в другой с весьма щекотливым дипломатическим поручением.
Кимейез с удовольствием демонстрировал своему невольному гостю сокровища Зелебзеля, которые собирали самые осведомлённые расхитители гробниц, каких знал мир. Были здесь десятки разукрашенных саркофагов, сотни статуй и картин и тысячи инкрустированных драгоценными камнями безделушек, отлитых из золота, серебра и меди. Это была ещё одна причуда Царя Гробниц – копить столь бесполезные вещи, к которым большинство повелителей смерти относятся с презрением, ибо мнят себя выше мирских забот.
– Найдётся ли в целом мире музей подобный этому? – хищно скалясь, спросил визиря Кимейез. – Сравнится ли коллекция хоть одного живого с этим великолепием?
– О подобном мне слышать не доводилось, – отвечал ему Амаймон. – Но, на мой взгляд, живые испытывают большее наслаждение от созерцания предметов искусства.
– Что ж, пожалуй. Наслаждение – это привилегия живых, и они слишком его переоценивают. Впрочем, не находишь ли ты, что услаждать свой взор такими вещами как драгоценные камни, статуи и картины, есть своего рода извращение? Не кажется ли тебе, что представление мёртвых о их ценности и достоинствах более чистое и утончённое?
– Чистое и утончённое? – откликнулся Амаймон. – Вполне, если только в том смысле, что кости скелета чисты от мяса, а духи истончены от недостатка материальности. Самоцветы бесстрастны и холодны, картинам и статуэткам, боюсь, также крайне не хватает подвижности, но взгляни только на мраморную статую танцовщицы. Я охотно признаю, если попросишь, что ваш род гораздо точнее оценит её недвижи́мость и белизну, но я не верю, что вам дано понять всю выразительность её позы и то волнительное наслаждение, которое испытываешь от запечатлённого в ней движения. Пусть это лишь мгновение застывшего времени, так похожее на смерть, но пленённое в тот самый момент, когда эта дева была полна цветущей жизненной силы. Возможно, такое мраморно-выбеленное создание как ты, лорд Кимейез, могло бы почувствовать некое родство с мраморным естеством этой статуи, но лишь живому человеку под силу увидеть застывший в ней танец.
– Так ты считаешь, что мёртвые не понимают танцев? – удивлённо спросил Кимейез. – Это не так, могу тебя заверить. Более того, я утверждаю, что лишь наше племя и способно понять истинную суть и красоту танца.
Будь Амаймон менее опытным человеком, он мог бы и не понять смысл этого заявления, однако он побывал в самых разных уголках земли с поручениями многих эмиров. Случалось ему заезжать даже в Империю, и он знал, как там принято изображать Тотентанц или Пляску смерти, где последняя символически изображается в виде скелета – не очень отличающегося, в сущности, от лорда Кимейеза Зелебзельского – возглавляющего вереницу держащих друг друга за руки танцоров.
Целью такого изложения, насколько знал Амаймон, было сплочение всего рода человеческого против невзгод, которые взваливает на него судьба, и для этого в вереницу пляшущих включались представители самых разнообразных социальных групп: мужчины и женщины, дети и старики, богачи и нищие, рыцари и священнослужители, солдаты и торговцы, учёные мужи и простые горничные. Амаймон не представлял ранее, что в Царстве мёртвых и в самом деле могут танцевать – из кого, в конце концов, можно было бы составить вереницу Тотентанца в таком месте, как Зелебзель? Впрочем, сейчас он раздумывал, уходила ли репрезентативная ценность картины за рамки просто символической?
С другой стороны, вполне возможно, что Кимейез рассуждал о чём-то более схожем с теми танцами, которыми привыкли развлекать себя живые. В любом случае, говорил себе Амаймон, повелитель смерти совершенно заблуждался в превосходстве мертвецов и как танцоров, и как ценителей искусства.
– Не могу поверить, что мёртвые могут танцевать столь же хорошо, что и живые, – сказал он Царю Гробниц. Им не хватит ни изящества, ни умения, чтобы воспроизвести ту артистическую выразительность, на которую способен человек. Я готов поручиться за это своей жизнью.
– Ты и так уже и проиграл свою жизнь, – заметил Кимейез, – но я не прочь устроить состязание, чтобы определить, как и когда ты с нею расстанешься.
– Увы, – ответил визирь, – у меня нет того, кто мог был подтвердить мою точку зрения. Среди тех, кого пленили твои солдаты, не было танцовщиц, впрочем, несколько музыкантов им всё же попались.
– Это обязательно должна быть девушка?
– Думаю, да.
– Тогда скажи, где мне найти подходящую. Я пошлю армию, чтобы доставить её тебе.
Для Амаймона это оказалось неожиданностью, и он, разумеется, совсем не хотел, чтобы по его вине очередная армия мертвецов обрушилась на какой-нибудь аравийский город, поэтому он крепко задумался над тем, что же ему делать дальше. Наконец, он произнёс:
– Не нужно. К счастью я обладаю некоторыми познаниями в магии, которой я старался не пользоваться, ибо видел, что подобные практики творят с лицами и душами людей. Но раз моя жизнь и так принадлежит тебе, то, полагаю, от одного раза ничего не случится. Я готов на один час оживить эту статую, дабы посредством танца высвободить тот артистизм, что послужил вдохновением к её созданию. У тебя имеется танцор, которого ты мог бы выставить против неё?
– О, да, – сказал Кимейез. – Вряд ли найдётся ещё один повелитель смерти, который мог бы этим похвастать, но у меня такой имеется.
– Но как мы будем оценивать результат? – задумчиво спросил визирь. – Ты сможешь предоставить беспристрастного судью?
– Это будет непросто, – согласился Кимейез. – Справедливо было бы взять по равному количеству живых из числа захваченных вместе с тобой пленников и мертвецов из моих солдат, но что, если потребуется решающий голос? Нам нужен хотя бы один судья, который был бы причастен к обеим сторонам, если можно так выразиться – впрочем, будь у нас такой, мы могли бы обойтись без остальных. Раз ты столь великодушно согласился даровать моей статуе час жизни при помощи своей магии, я должен ответить тебе тем же и тоже немного поколдовать. И вот что я предлагаю: согласишься ли ты, чтобы твой представитель стал также и судьей, если по истечении часа я дам ей возможность сделать выбор между жизнью и смертью? Согласишься ли ты, что её решение станет неоспоримым доказательством превосходства той или иной стороны, если я позволю ей выбрать между продолжением той жизни, что ты вдохнул в неё и возможностью стать таким же танцором, что будет выставлен против неё?
Амаймон призадумался на мгновение, ему показалось, что так преимущество будет на его стороне, и он согласился.
– Но что мне поставить, учитывая, что судьба моя уже в твоих руках? – спросил он.
– Это просто, – ответил Кимейез, – если ты выиграешь, я дам танцовщице уйти, чтобы её вновь обретённая жизнь прошла среди её братьев и сестёр. Если же проиграешь, то станешь моим визирем и будешь служить мне – как до, так и после смерти – с той же мудростью и верностью, с какой ты служил своим живым эмирам.
Вновь задумался Амаймон, и снова это показалось ему выгодной сделкой, учитывая, что он всё равно пропал. Он уже находился среди мёртвых, а вскоре умрёт и сам, чего ещё остаётся желать, как ни почётной и высокой должности в стране мертвецов?
– Твоё великодушие не знает границ, повелитель, – произнёс он, – я с радостью соглашаюсь.
– Мёртвые вкладывают в понятие великодушия несколько иной смысл, – сказал ему Кимейез, – но я рад, что ты доволен. Займись своей магией, а я созову придворных, и, как только ты закончишь, мы сможем начать состязание.
Танцовщицу звали Келомея. Когда при помощи метаморфической магии Амаймона она появилась на месте статуи, для которой послужила когда-то моделью, и когда её смятение улеглось, она поведала визирю, что выступала при дворе царя Лувы Хамосского в те давно ушедшие дни, когда неехарскую империю населяли живые люди, и задолго до того, как цветущие поля этой страны обратились безводной пустыней.
Девушку никто не учил танцевать, представления её были действом спонтанным, рождённым из вдохновения и вскормленным естественным процессом взросления. Она танцевала, потому что это было самым естественным проявлением её жизненной силы, и делала она это так прекрасно, что сумела завоевать расположение царя, который слыл во всей Неехаре первейшим ценителем искусств.
Амаймону всё это пришлось по нраву. Он объяснил Келомее, что ей предстоит принять участие в состязании против танцора, представляющего мир мёртвых, или, по мнению некоторых, «мир живых мертвецов», и честь выбрать победителя будет оказана ей самой.
– Я слышала, что ламии, напоминающие своим видом змей, прекрасно танцуют, – неуверенно произнесла она. – Ещё я слышала, что одного из придворных царя Лувы посетила во сне пляшущая суккубица, и при помощи колдовства высосала жизненные флюиды из его тела. Но самая главная опасность может заключаться в том, что против меня может выйти дух какой-нибудь прославленной танцовщицы, которая стала только грациознее из-за своего теперешнего состояния.
– Есть и такая вероятность, – согласился Амаймон. – Однако вся суть спора в том, чтобы сравнить танец живого и танец мёртвого. Не думаю, что Кимейез выберет танцора на том лишь основании, что он при жизни услаждал своим искусством взор живых людей. Может статься, что вид твоего соперника немало тебя удивит, но судьёй будешь ты, и тебе всего лишь останется пожелать остаться собой и продолжить жить в Аравии, так же как до этого ты жила в Хамосе.
– Не могу даже представить, что возжелаю чего-то иного, – ответила ему Келомея. – Я танцовщица до мозга костей, и нет во мне ничего больше.
– Прекрасно, – сказал Амаймон.
Пленённые музыканты визирю не понравились, навыки их были весьма заурядны и от того незавидного положения, в котором они оказались, стали только хуже, но Келомея была уверена, что их будет вполне достаточно. Она выбрала цитриста, тарелочника и барабанщика, а Амаймон попытался объяснить им всю важность возложенной на них задачи.
– Покажите этим воскрешённым трупам, что значит быть живыми, – сказал он всем четверым, пока они готовились выйти на сцену. – Продемонстрируйте им нашу любовь к жизни. Если ты сможешь станцевать так, как я рассчитываю, Келомея, быть может, ты напомнишь им о том, чего они лишились, и возродишь в этих невероятных созданиях сладостную горечь искреннего чувства сожаления. На это я, по крайней мере, надеюсь.
– И я, – сказала танцовщица, – ведь на кону стоит жизнь.
В сундуках музея она разыскала себе подходящий костюм, а музыканты заверили её, что готовы сделать всё, чтобы помочь ей.
На состязание Кимейез собрал в своём дворце целую толпу зрителей и распределил её по огромной зале. Всех живых пленников, что были ранее захвачены его армией, выпустили из клеток, солдаты, принимавшие участие в походе против них также находились здесь, были тут и министры повелителя смерти, и прислуга, и младшие колдуны.
– Ты зачинщик нашего спора, – сказал визирю Кимейез, – твой танцор должен выступить первым.
– Вперёд, Келомея. Да устыдятся мертвецы своего нынешнего состояния, а ты напомни им, что значит быть живым.
И девушка исполнила всё, как он сказал. Она вспорхнула на арену и исполнила легендарный Танец семи покрывал.
Среди простого народа, который знает о нём лишь понаслышке, ошибочно считается, что это не что иное, как танец обнажения, но на самом деле он представляет собой нечто гораздо большее, ибо каждое из семи покрывал несёт особый смысл, и их ритуальное снятие есть переход от несчастья к блаженству. Каждый предмет одежды олицетворяет проклятье, и когда все вуали сброшены, танцовщица испытывает совершенно неповторимое и радостное чувство свободы.
Музыкантам уже не раз приходилось играть для Танца семи покрывал, хотя и не в такой ужасной и торжественной обстановке. Им сразу удалось попасть в ноты, и с ходом представления, когда к ним перешла часть вдохновения Келомеи, они заиграли ещё краше.
Согласно Танцу семи покрывал, первым проклятием, отравляющим жизнь человека, является голод, к которому условно можно отнести и жажду. Поэтому первой фазой танца стало изображение при помощи языка тела самой изначальной человеческой потребности, которая обретает форму успешных поисков новорожденным материнского молока и материнской любви.
Вторым проклятием, отравляющим жизнь человека, согласно Танцу семи покрывал, является холод, и второй фазой в этой версии танца стало действенное воплощение нужды живого существа в одежде и крове и успешное их обретение.
Третьим проклятием, отравляющим жизнь человека, согласно Танцу семи покрывал, является болезнь, которая, условности ради, объединяется также и с увечьем, поэтому третья фаза представления Келомеи являла собой символическое чествование возможности человеческого тела исцелять себя, а также прославляла врачебную мудрость.
Четвёртым проклятием, отравляющим человеческую жизнь, согласно Танцу семи покрывал, является одиночество, и четвёртой фазой келомеевой пантомимы стал гимн обществу, узам дружбы и обильным плодам совместного труда.
Пятым проклятием, отравляющим жизнь человека, согласно Танцу семи покрывал, являлась утрата, поэтому следующей фазой представления Келомеи стала демонстрация боли потери, которая постепенно сменялась торжеством решимости и осознанием того наследия, которое умершие оставляют живым.
Шестым проклятием, отравляющим человеческую жизнь, согласно Танцу семи покрывал, является бездетность, поэтому шестой – и, пока что, самой долгой – фазой феерии Келомеи стало прославление плотской любви, брака и родительства.
Амаймон с высоты своего опыта наблюдал за фазами танца и не находил, в чём можно было бы упрекнуть Келомею. Нетрудно было заметить, что девушку не обучали традиционным фигурам аравийского танца, но столь же очевидно было и то, что её естественность и энергичность с лихвой компенсировали этот пробел. Она была действительно талантлива, а её диалог с публикой нисколько не становился слабее от того лишь, что ему недоставало изящества и утончённости. И сколь бы несовершенной ни была игра аккомпанирующих ей музыкантов, зрителей это мало заботило – в центре внимания оставалась одна лишь танцовщица. Очарованные каждым движением её тела, живые представители собравшихся глядели на неё во все глаза.
С другой стороны, Амаймон замечал, что на мёртвых её танец не произвёл особенного впечатления. Многие скелеты, большинство зомби и все гули имели по два здоровых глаза, а духи и подавно буравили танцовщицу таким пронзительным взглядом, какого в при жизни их тела ни за что бы не повторили. Все они прекрасно видели, что делала Келомея, и даже печально известное отупление, наступающее после смерти, не могло помешать им осмыслить большую часть происходящего, однако, как видел Амаймон, представление не находило в них никакого отклика. Казалось, что танец напомнил им о жизни, но не в той мере, чтобы они могли пожалеть о её утрате. Похоже, их вообще ничего не трогало.
Возможно, думал Амаймон, это оттого, что они утратили способность переживать, однако ему и самому в это не верилось. Мёртвые или нет, но, подвластные некой движущей силе, они получили возможность действовать. И подобно тому, как эта движущая сила находила в них отклик, искусство танца также должно было вызвать ответную реакцию. Трудность состояла лишь в том, чтобы добраться до их потенциала и пробудить его.
В танцевальном представлении оставалась завершить всего одну фазу, и если на что Амаймон и смел надеяться, так только на неё. Впрочем, он подозревал, что этот финальный акт может показаться немного оскорбительным для собравшей во дворце Зелебзеля публики, ибо последним проклятием, отравляющим жизнь человеческую, согласно Танцу семи покрывал, была сама смерть: не кончина близких, как в пятом проклятии, но гибель самой личности. И заключительный акт драмы Келомеи должен был воплощать героическую борьбу созидательного начала и бунтарского утверждения о том, что пусть тело и разум исчезают, но то наследие, что породили знания и опыт человека, не может пропасть.
Келомея выступила не хуже любого, кто оказался бы на её месте. Последним и самым длинным актом этого танцевального шедевра стало прославление самого танца, радости, которую он приносит, и его значения. Окончанием и наивысшей точкой его стало снятие седьмого покрывала и обнажение скрывающегося под ним человеческого существа, ликующего, одержавшего верх над каждой из тех многих невзгод, что злая судьба взвалила на людской род. Даже музыканты превзошли самих себя.
Когда Келомея затихла, стоящие со слезами на глазах пленники разразились бурей аплодисментов и восторженных криков. Мёртвые же не проронили ни звука. Им не было скучно, но в то же время не выказали они ни малейшей заинтересованности.
Это ничего, говорил себе Амаймон, ибо не им решать, кто станет победителем. Келомея была судьёй, и в сколь бы восторженном состоянии ни пребывала живая публика, они не испытали и десятой доли того удовольствия, которое получила она, демонстрируя своё танцевальное искусство.
Когда глаза визиря и танцовщицы встретились, Амаймон понял, что выступление принесло девушке радость, и исполнился надежды. Кимейез поманил Келомею, указывая, что ей надлежит занять свободное место возле Амаймона. Визирь осторожно взял её за руку и едва ощутимо сжал, словно поздравляя с победой.
Затем на сцену вышел представитель мёртвых.
Соперник Келомеи, как и догадывался Амаймон, выглядел точь в точь, как рисовали его на своих картинах имперцы – это была фигура, возглавляющая Тотентанц. Скелет, но не простой: выглядел он очень надменно, глазницы были пусты, а челюсти с белоснежными зубами навечно растянулись в улыбке, присущей каждому давно умершему существу. На его плечах висел чёрный как смоль плащ с капюшоном, а в руке была коса.
Цитрист, тарелочник и барабанщик уже удалились к остальным пленникам, а их место занял ещё один скелет – барабанщик, облачённый в монашеское одеяние. Но когда он принялся ласкать инструмент своими тонкими пальцами, мелодия, которую он воспроизвёл, походила скорее на боевой сигнал, нежели на танцевальный ритм. Амаймон узнал в нём шамад: сигнал, который подают обескровленные, уставшие от сражений армии для начала переговоров.
В этом представлении не было ни покрывал, ни проклятий, ни пауз. Оно состояло из одной только фазы, но даже и в ней не было ни намёка на кульминацию.
Пока Амаймон смотрел, как скелет двигался в ритме шамада, ему подумалось, что он никогда мог представить, как выглядит Тотентанц на самом деле. Ровно, как и статуя Келомеи, резные изображения, которые он видел в Альтдорфе и Мариенбурге являли собой застывшие мгновения, отделённые от самого процесса, но если человеческому глазу всё же удавалось прочесть движение и танцевальный порыв, сокрытый в статуе, проделать то же самое с нарисованным предводителем Тотентанца он не мог. И теперь, в первый раз в жизни ему удалось увидеть ход и развитие Пляски смерти и понять не просто, «куда» он ведёт, но также «как» и «почему».
В Тотентанце не было фаз, поскольку смерть не имеет фаз. Не было в нём проклятий, поскольку смерть лишена боли. Не было в нём и покрывал, ибо не может смерть ни исказить, ни скрыть свою суть. Не было в танце триумфа и восхвалений, поскольку смерть сама есть триумф, и нет ей нужды в похвалах. Тотентанц был нетороплив, тщательно размерен, бесконечен. Он был неотвратимым и неизбежным требованием, обещавшим скорее перемирие, нежели окончание войны. И требование это, адресованное измождённым от измождённых, подчиняло себе всё и вся... кроме мёртвых.
Неимоверно терпеливые и тщательно выдержанные шаги закутанной в чёрное фигуры, обозначали жизнь, как противление неизбежной кончине. И жизнь праздновала свои победы – лишь те, которые возможно было осмыслить, разумеется. В смерти же, напротив, не было ни побед, ни борьбы, поскольку и нужды в них не было. Таков смысл шамада и смысл танца, которому тот аккомпанировал.
Скелет не прошёл ещё по арене и круга, как Амаймон понял, что ему не выиграть этот спор. Ему не одержать верх, ибо его оппоненту не нужна была победа, ему оставалось лишь уступить, ибо проиграть здесь мог только он.
Даже если бы он не держал обмякшую руку Келомеи в своей, он бы всё равно осознал, что и она поймёт то же самое. Ранее она и представить себе не могла, что пожелала бы стать кем-то другим, поскольку танец составлял всю её жизнь до того, как она стала статуей; она была танцовщицей до мозга костей. Но поражение уже было там, в её голове; Келомея никогда не видела, не представляла себе и не понимала Тотентанца. Но сейчас она смотрела на него и в точности понимала, как его ритм проникает в человеческие глаза, уши и разум, и, будто обольстительный демон, он изгонял все ненужные ему мысли и ощущения.
Пленённые вместе с Амаймоном люди перестали хлопать и начали присоединяться к танцу.
Вскоре затанцевала и Келомея, но на сей раз не Танец семи покрывал.
Вот к действу присоединилась коса. По мере того, как колонна фигур описывала круги, вновь и вновь настигая собственный хвост, перед смертными появлялась коса. Люди крепко держали друг друга за руки и не могли оказать никакого сопротивления её жаждущему лезвию, но они и не старались этого сделать. Они не дрожали и не отворачивались, когда оно разрезало их плоть, и кровь до последней капли изливалась из их тел. Вскоре мясо начинало плавиться и слезать с их костей, словно монотонная музыка сигнального барабана стала своего рода огнём, а побелевшие человеческие кости – пеплом.
Келомея противилась своей неизбежной гибели не больше чем цитрист, барабанщик или тарелочник, которые сумели оценить ритм, под который танцевали, чуть лучше, чем немузыкальное большинство остальных их товарищей.
– Вот что смерть может предложить живым, – прошептал Кимейез в ухо Амаймону. – Вот чего они могут достичь, если попытаются лучше вникнуть в суть Великого крестового похода.
Амаймон был единственным из присутствующих людей, кто мог противиться призыву шамада. Он оставался на месте, в кресле, подле Кимейеза, Царя Гробниц – но единственной причиной тому была внимательность повелителя смерти, который положил свою костяную кисть на руку визиря, запретив тому двигаться. Влияние было чуть ощутимым, но противиться ему было невозможно. Амаймон стал единственным живым, который удостоился чести увидеть и услышать Тотентанц и не присоединиться к нему, потому он также стал первым в мире живым, кто постиг стратегию и цели Великого крестового похода.
Не менее примечательной была реакция мёртвых зрителей на разворачивающееся перед ними зрелище. Они не аплодировали и не раскачивались в такт музыке. Стояли, проронив ни звука – им не было скучно, но и интереса они не проявляли. Их воскресили, дабы они могли послужить Великому крестовому походу против живых; они получили оружие, доспехи и цель, однако, та движущая сила, что принуждала их сражаться с живыми, отличалась совершенно от мотивов, побуждающих действовать живые существа. Их движущая сила не отличалась от самого Тотентанца, и внешне они никак не реагировали на него, поскольку не испытывали в том нужды.
Мёртвым не нужно было следовать ритму танца или выражать своё одобрение, ведь танец был всего лишь отражением их природы, словно тень, беспечно лежащая на земле.
– Теперь отпусти меня, – сказал Амаймон Кимейезу. – Я увидел всё, что было нужно. Я признаю, что проиграл, и стану твоим визирем, только отпусти меня, чтобы я смог соединиться со своими собратьями в Тотентанце.
– О, нет, – беззлобно произнёс повелитель смерти. – Так не пойдёт, ибо вместо того, чтобы стать предателем, ты просто превратишься в одного из нас. Со временем мертвецы неизбежно становятся глупы, даже если их призовёт такой искусный некромант, как я. Ты выплатишь свой долг слезами, потом и кровью, но лишь так, как я того пожелаю.
И Амаймон остался на месте и продолжил смотреть на Тотентанц. Тот, казалось, продолжался вечно, но когда закончился, прошло времени гораздо меньше, чем человеку требовалось чтобы родиться, не говоря уже о том, чтобы умереть.
Затем последовали долгие, тяжёлые годы служения Кимейезу, и Амаймон открыл для себя, что первым проклятием, отравляющим жизнь человека, и впрямь был голод, к которому для краткости можно было отнести жажду. Также он постиг, что оценочная система потребностей, которая выставляла холод на второе место, болезнь и увечье на третье, одиночество на четвёртое, утрату на пятое и бездетность на шестое, была невероятно точна. Он сполна испил чашу каждого из этих несчастий, но ему не было позволено умереть. Он помогал приносить смерть тысячам живых, и без счёта приводил преданных им собратьев под знамёна Кимейеза, но не было ему позволено обрести освобождение, ни того, которое он так жаждал, ни какого-либо другого.
Никогда не забывал Амаймон, что последним проклятием, отравляющим жизнь человеческую, была неотвратимость смерти, по крайней мере, согласно Танцу семи покрывал, но утешения в этом было мало, пусть даже финальная фаза представления Келомеи столь глубоко отпечаталась в его сознании, что раз за разом прокручивалась в его беспокойных снах.
Он по-прежнему помнил, что итогом и кульминацией его существования, как и любого другого существа, должна была стать героическая борьба созидательного начала и неспособность смерти свести на нет плоды труда занятого человека. Увы, это знание стало бесполезным для него в тот самый миг, когда он узрел первый круг Тотентанца, бесполезным оно и осталось для Амаймона, Визиря Зелебзельского, не говоря уже о повелителях смерти, чья единственная цель состоит в том, чтобы собирать армии скелетов, зомби, призраков и гулей и сражаться с живыми.