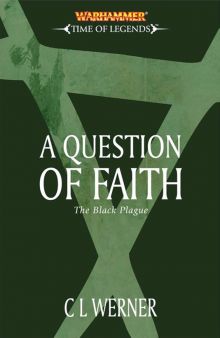Испытание веры / A Question of Faith (рассказ)
| Автор | Клинт Ли Вернер / C.L. Werner |
| Переводчик | BOjE |
| Издательство | Black Library |
| Серия книг | Time Of Legends
Чёрная чума |
| Год издания | 2014 |
| Подписаться на обновления | Telegram-канал |
| Обсудить | Telegram-чат |
| Экспортировать | EPUB, FB2, MOBI |
| Поддержать проект
| |
Возле крестьянской мазанки стояло невысокое деревянное святилище. Сложенный из брёвен алтарь был посвящён капризным духам природы, насылающим невзгоды на головы рейкландских виргатариев. Чтобы задобрить эти зловредные силы, святилище было обвешано самыми чудными подношениями: на полочке, между каменной чашей с ячменём и пучком пшеницы, выстроились надтреснутые клювы ворон и сорокопутов. К тонкой палке, висящей над алтарём, была привязана иссохшая лапка лисицы, пойманной в курятнике, а на самой верхушке – прибит человеческий палец, отрубленный у какого-то бродяги; палец указывал наверх, на небеса, на древних богов ветра и грозы.
Тесный, закрытый со всех сторон закуток между складом Рольфа Венера и курятником Ксавера Маухера был не самым романтичным местечком, но для тайных свиданий вполне годился. Кудахтанье маухеровских кур раздражало куда меньше острого языка матери Эмиля Штуккарта и не грозило побоями от отца Ренате Альтштёттер.
Чтобы отделаться от тревожного чувства, засевшего в голове, Эмиль закрыл глаза. Ему хотелось раствориться в этом мгновении, насладиться прикосновением пальцев Ренате, игравших с его волосами, купаться в тихом счастливом смехе, трепетавшем на ее сомкнутых губах. Шуметь было нельзя. Стоит перепугать кур, и либо Венер, либо Маухер обязательно выйдут поглядеть, в чем дело, и из укрытия придется срочно выбираться. Но, как ни странно, сама опасность делала восторг от пребывания с Ренате еще более острым.
— Ты меня любишь? — мягко прошептала она.
Ее голос был робок, вопрос будто сам боялся ответа. Эмиль увидел страх, таившийся в ярких голубых глазах женщины. Она на несколько лет младше его, но уже воспитала в себе ту же уверенность, которой обладал и Эмиль, силу развиться в независимую личность, не ту, что хотели бы видеть ее родители. Он нахмурился на миг и сильно прижал ее к себе.
Сколько раз она уже спрашивала его? Все с той же робостью, той же неуверенностью. Как убедить ее, что между ними все по-настоящему? Отчего он не мог дать ей понять, что это не каприз и не жестокий обман, что он действительно верен ей? Что может понадобиться, чтобы вывести тот яд, которым Юрген отравил разум своей дочери?
Он позволил уже ответу подобраться к кончику своего языка, как в их тихое убежище ворвались звуки громких голосов. На одно страшное мгновение юные любовники решили, что их обнаружили. Но нависшая было угроза так и не воплотилась в реальность, и, стоило первому страху пройти, их охватил ужас иного рода. Шум доносился из центра деревни, со стороны храма и таверны Баумана. С такого расстояния слов было не разобрать, однако одно выделялось так, будто его выжгли в воздухе раскаленным железом.
Чума!
Эмиль почувствовал, как Ренате дрожала, прижавшись к нему. Он улыбнулся и погладил ее по плечу, стараясь не показать испуга.
— Старик Ханс опять пугает народ, — беззаботно фыркнул он. — Отец Антон скоро его утихомирит. Проберусь туда и погляжу, не нужна ли ему помощь.
В глазах Ренате мелькнуло сомнение. Она не поверила ни единому слову, однако ей хватило проницательности понять, что если скажет об этом, ничего хорошего не выйдет. После смерти старшего Штуккарта, деревенский жрец, не жалея сил, в одиночку помогал семье Эмиля встать на ноги. У Ренате попросту не нашлось бы аргумента, который мог перевесить чувство долга жрецу. Вместо этого на прощание она пылко поцеловала своего любовника.
— Будь осторожен, — сказала она.
Ее сердце сжималось от предчувствия беды.
Протискиваясь через узкий проход к грязной тропинке, Эмиль так и не заставил себя обернуться. По обеим сторонам дороги стояли небольшие мазанки, и они окаймляли ее гораздо лучше, чем бордюр из речных камней, который приказал устроить один из давнишних деревенских старост, и который с тех пор каждый новый староста исправно подновлял. Собирать камни из реки Сол стало для жителей чем-то вроде праздника, поэтому возмущались немногие.
Впереди виднелась деревенская площадь, в центре которой высился древний и седой дуб, а на дальнем ее конце вытянулся баронский амбар для зерна, единственное каменное здание в деревне. Таверна Баумана стояла пустая, толпа бездельников завсегдатаев покинула ее, двери храма были широко распахнуты, что случалось лишь по церковным праздникам. Впрочем, отыскать зачинщика этих беспорядков можно было с первого взгляда.
Собравшаяся на площади огромная толпа окружила одинокого всадника на лошади и с тяжело нагруженным мулом. Незнакомцы в Хельмштедте были делом необычным, но этот являл собой особенно мрачное зрелище. От макушки до пят он был закутан в черное, телосложения под жирно блестевшей кожаной курткой было не разобрать, голову полностью закрывали широкие поля докторской шляпы. Довершала зловещую атмосферу вокруг незнакомца уродливая маска — длинный кожаный клюв, как у грача, по бокам которого свешивались зубчики чеснока и веточки падуба.
Как только Эмиль понял, что это был за всадник, он зашагал быстрее. Чумной доктор, один из тех жутких лекарей, что противопоставляли свое искусство непомерным аппетитам Черной смерти. Подобно грифам, которых они напоминали с виду, эти люди были вестниками горя и разрушения. Ни одно дурное предзнаменование не сулило Хельмштедту больших несчастий, чем появление чумного доктора.
Это чувство и стало предметом споров между жителями. Как только Эмиль подошел поближе, он смог лучше разбирать, о чем так недовольно гудят его соседи. То, что он въехал в деревню, уже было дурно, но никто не хотел позволить этому человеку спешиться, дабы не умножить грядущие несчастья.
— Здесь не было чумы, — рявкал Оскар Хайц. В нем кипел гнев, и бородавка на его лбу раздраженно алела. — И дел ваших нам не нужно!
— Шакалы! Убийцы! — визжала на незнакомца Клаудия Мюллер. — Слыхали мы, как вы лечите! Как обкрадываете тех, кто слишком болен, чтобы гнать вас палкой!
Хотя лицо всадника было скрыто птичьей маской, Эмиль буквально видел, как он презрительно усмехается, огрызаясь толпе.
— Чернь! Да у вас не найдется, чем заинтересовать и крысолова, не то что ученого врача!
— Над теми, кто живет скромно, не насмехайся, ибо они ближе к милости Зигмара, нежели любой сребролюбец.
Замечание было сделано тихим шепотом, который разил с остротой меча. Чумной доктор повернулся в седле и, увидев, что его новым противником стал мужчина в черной мантии, священник-зигмарит, несколько съежился. Отец Антон не отличался внушительным телосложением, и даже в лучшие свои годы не походил на крепких воинов-жрецов, но на суровом лице его лежал отпечаток силы воли, которой удавалось обращать на свою сторону даже самых апатичных прихожан. Чумной доктор попытался выдержать укоряющий взгляд отца Антона, однако для его наемничьей души это было слишком.
— В Пфайльдорфе моих услуг дожидаются важные люди, — пояснил он. — Я должен добраться туда как можно скорее. — Он сложил руки в просительном жесте. — Если эти люди снабдят меня необходимыми припасами, я тот час же уеду.
Взгляд священника не смягчился.
— Ты врываешься сюда, только что обобрав какой-то городок или деревню, и от тебя несет смертью. Приходишь к нам, укрыв лицо от заразных испарений, думая, что и здесь обнаружишь смерть. Но есть ли в твоем сердце желание задержаться здесь, оказать посильную помощь? Святой Зигмар учит, чтобы обороть врага, людям должно объединиться. Он учит, что должно ценить жизнь ближнего больше, материальных благ и славы.
Чумной доктор нервно поерзал.
— Отец, в городе есть много тех, кому я смогу помочь...
— Не изрыгай здесь своей лжи! — рявкнул жрец в ответ. — Ты едешь в Пфайльдорф не лечить, а грабить! Прочь, мерзкий шакал! Здесь ты не найдешь помощи! Праведники не ведут дел с падальщиками!
Камень просвистел возле шляпы пришельца прежде, чем он смог сказать что-то в ответ на обвинения. За первым быстро последовали еще, вскоре уже буквально каждый крестьянин на площади швырял камни в доктора и его животных. Бранясь и вздрагивая каждый раз, когда булыжник стучал по натертому маслом плащу, чумной доктор развернул лошадь. Через мгновение он уже скакал с площади галопом, а его мул поспешал за ним.
Когда камни перестали долетать до него, жители Хельмштедта еще долго свистели ему вслед. Отец Антон воспользовался случаем, чтобы прочитать собравшимся проповедь, и вознести молитву Могучему Зигмару в благодарность за то, что тот уберег деревню и отвел чуму от ее жителей.
Эмиль склонил голову, но молитва все не шла. Они никак не мог отделаться от образа чумного доктора и мысли о том, не наступят ли времена, когда Хельмштедт будет с радостью встречать такого въезжающего на площадь незнакомца.
— Поджигай!
Безжалостные слова с жарким шипением сорвались с обвислых губ Яноса Унгера. Одной рукой хельмштедтский староста крепко сжимал висящую на груди пектораль1, отличительный знак баронского наместника, другим своим кулаком яростно стукал себя по бедру. Обычно Унгер наслаждался данной ему властью, всячески проявляя тот особенный мелочный деспотизм, который в глазах барона делал его таким хорошим управляющим. Теперь же его собственные приказы были ему отвратительны.
Первая семья — Гунтар Штарквайтер и его дети — заболела через два дня, после того, как из деревни прогнали чумного доктора. Каспар Вальтен с Оттилией Шенк присоединились к ним на следующий день. С самого первого жители опасались, что это чума. Ко второму их страх обрел голос. Заползая в каждую хижину и лачугу, Хельмштедт захлестнул ужас.
Крестьяне требовали от старосты, чтобы он оградил их от чумы, к чему этот простой, необученный человек оказался не готов. Он был обычным фермером, не ученым и не врачом, и у него не было знаний, чтобы сражаться с чумой. Он мог обратиться лишь к опыту своей крестьянской жизни. Если в стаде обнаруживают признаки хвори, больных животных следовало отбраковать, чтобы защитить здоровых.
Гунтара и его отпрысков, Каспара и Оттилию, а также всех, кто жил с несчастными под одной крышей, вытащили из дома и пригнали в старый сарай на краю деревни.
— Карантин, — выговорил Унгер в надежде, что ученое слово произведет на жителей впечатление.
Высокомерное ли поведение тому виной, но приказы старосты испуганная толпа выполнила.
Теперь же было совсем другое дело. Крестьяне виновато поглядывали друг на друга, слушая жестокие слова Унгера и жалобные крики обреченных из сарая. Выгнать зараженных из дома, отделить их от здоровых — это было объяснимо. Но сжигать, сознательно идти на убийство? От страха, единственного оставшегося чувства, у них опускались руки.
Унгер обвел глазами толпу. На их лицах легко читалось отвращение. Он не был бездушным чудовищем — те же чувства владели и им самим. Будь иной путь, он выбрал бы его. Но такого он не знал. Больных придется уничтожить, чтобы здоровые выжили. Жестоко и просто. Разжав кулак, он указал пальцем на Рольфа Венера.
— Предать сарай огню, — сказал он. Тот замешкал, и староста сдвинул брови. — Следующей весной барон освободит тебя от десятины, — пообещал он, пытаясь сыграть на жадности крестьянина.
В прошлом году у Рольфа был скудный урожай, и он все еще пытался расплатиться с долгами, которые наделал за эти месяцы. Освобождение от десятины стало бы для него подарком небес.
Не выказывая особенной радости, Рольф направился к сараю с зажженным факелом в руке, но дорогу ему преградил Эмиль Штуккарт. Юный крестьянин так горячо оттолкнул поджигателя, что чуть было не повалил его наземь. Парень зло поглядел на него, затем обвел суровым взглядом толпу.
— Вы с ума сошли? — прорычал он. — Нельзя этого делать! Это же не животные! Это наша семья, наши друзья!
Унгер положил руку на меч, еще один свой отличительный знак.
— Это ты сошел с ума, Эмиль! — упрекнул он юношу. — Нельзя дать чуме распространиться! Или ты хочешь, чтобы заразилась вся деревня?
Толпу, которая лишь мгновение назад была подавлена стыдом, всколыхнула угроза неминуемой гибели. Взрыкивая, словно волки, жители деревни напустились на Эмиля. Он пытался отбиваться, оттолкнув первого, кто подошел к нему, но, когда встретился взглядом с разъяренным отцом Ренате, замешкался. Юрген сердито смотрел на Эмиля, и в его глазах застарелая ненависть горела ярче факела. Отто Штуккарт, отец Эмиля состоял при деревенском суде, и на спине Юргена до сих пор виднелись шрамы от его плети. Когда он умер, ненависть крестьянина просто перешла на его сына.
Юрген впечатал кулак Эмилю в живот, тот согнулся от боли. Вскоре и остальные крестьяне напали на беззащитного юношу. Под градом ударов и пинков он упал на землю. Прежде чем его успели избить до полусмерти, среди суматохи раздался властный окрик, голос, отдающий приказ от лица того, кто пользовался куда большим уважением, нежели местный староста.
— Остановитесь! — выбежав на улицу, закричал отец Антон.
Его черная мантия вилась вокруг него, как крылья страшной хищной птицы. Таким строгим был его взгляд, что ни один, кто встречался с ним глазами, не смог вынести его. Крестьяне, один за другим опускали головы и робко расступались перед священником. Когда толпа успокоилась, тишину наполнили вскрики запертых в сарае. Отец Антон гневно погрозил толпе кулаком.
— И вы называете себя людьми? — презрительно усмехнулся он. — Я вижу лишь напуганных кроликов, безмозглых и забывших от ужаса, что значит быть человеком. Где то чувство гордости, что отделяет нас от полевых зверей, и от зеленокожих из пустошей? Где та доблесть, что одаряет человека силой выстоять перед тяготами Древней Ночи? Где милосердие и благодеяние, столпы самой цивилизации, то основание, на котором Святой Зигмар выстроил нашу Империю?
Рольф указал факелом на сарай.
— Но чума... Они там... Мы все тогда...
С горящими, как угли, глазами отец Антон повернулся к фермеру.
— Чумы ты страшишься больше кары Могучего Зигмара? Вера твоя настолько пуста, что ты пасуешь перед первой же трудностью? — Жрец обвел пальцем остальных. — Вы готовы осквернить свои души, чтобы спасти плоть? — Он покачал головой. — Так живут варвары, те, кто становятся рабами тьмы! От этих оков нас освободил Зигмар. А вы готовы с радостью надеть их снова?
Пока жрец помогал Эмилю подняться, люди Хельмштедта стояли вокруг в стыдливом молчании.
— Проповеди не оградят нас от чумы, — неуверенно произнес староста. — Чтобы защитить себя и наши семьи, мы должны сделать все, что потребуется.
Отец Антон сердито посмотрел на Унгера.
— Вера спасет Хельмштедт. Все, что нам нужно — это Вера в Господа нашего, Зигмара!
Но Унгер не отступил перед силой духа жреца, и стал спорить дальше.
— Вера в Зигмара не помогла ни Пфайльдорфу, ни Нульну, ни Виссенбургу, ни Аверхейму, — заявил он. — Там были лекторы и архилекторы, они взывали к Нему, но Бог не спас их. Что, Хельмштедт важнее этих великих городов?
Ученого жреца поколебали слова Унгера. Толпа заметила в его глазах огонек неуверенности, и в тот же миг все его влияние над ними было разрушено. Разозленные крестьяне снова стали стекаться к сараю. Священник воздел руки, призывая прихожан выслушать его.
— Пути богов не дано постичь даже мудрейшим, — проговорил он. — Все, что мы можем — это жить по их заветам. Чудеса сулят лишь обманщики, так что, быть может, мы и недостойны вмешательства Зигмара, но одно я могу вам обещать — если вы убьете своих соседей, Зигмар проклянет эту деревню.
— Так что нам делать с больными? — возвысился над ропотом голос Юргена.
Отец Антон кротко улыбнулся ему.
— Отведите их в дом Зигмара.
Жрец почувствовал на своем плече руку Эмиля. Оглянувшись, он увидел беспокойство на лице юноши и ободряюще кивнул ему.
— Пусть храм станет их прибежищем. Может, вы и боитесь, что они будут среди вас, но я не боюсь быть среди них.
Атмосфера запустения обвила храм прочнее, чем лозы ползучих растений — его стены. Высокое, мощное здание, некогда центр деревенской общины теперь стали обходить стороной. Оно стало материальным воплощением ужасной погибели, нависшей над деревней, Черной Чумой запечатленной в камне и растворе. Прилипшую к стенам зловещую тишину нарушал лишь звон церковного колокола. Вопли страждущих, крики обреченных и стоны умирающих — все это милосердно заглушал толстый камень. Не проходило и дня, чтобы какая-нибудь семья не приводила отцу Антону заболевшего родственника, вверяя тому заботу о несчастном.
Вверяя? Эмиль нахмурился. Слишком добрым словом он награждал жителей Хельмштедта. Оно наделяло селян такими добродетелями, как вера и надежда, которые на деле давно уж сгинули, ибо души крестьян оказались бесплодной почвой. Не из-за веры в милосердие Зигмара или в доброту иных богов приводили они отцу Антону пораженных чумой. Они не вверяли ему членов своих семей — они оставляли их у него, сбрасывая ношу, которую слишком боялись взвалить на себя. Легче было дать больным чахнуть и умирать в храме, за толстыми каменными стенами, подальше от добрых жителей Хельмштедта.
От одного этого Эмилю становилось противно. Дети отворачивались от родителей, братья прогоняли сестер, мужья обрекали на медленную смерть жен, только чтобы спастись самим. Страх чумы уносил все, что было в людях хоть немного хорошего, пока те не лишились последних крупиц сострадания. Если таков человек, Эмиль не удивлялся, отчего Зигмар и другие боги были столь безучастны к людским мукам.
Злость собственных мыслей не нравились Эмилю. Отец Антон был другим. Он не побоялся помочь страждущим, даже когда это сделало его изгоем в собственной деревне. Теперь, когда Эмиль отваживался помогать священнику, глухой ночью тайком пронося в храм пищу и воду, тем же словом он мог именовать и себя. В случае поимки самое меньшее, что ждало его — это хорошая взбучка от Унгера и его людей.
Он задержался возле таверны Баумана, поглядывая на дорогу в поисках старосты или крестьян, которых тот произвел в ополченцы. Когда юноша убедился, что ни Унгера, ни его громил нет поблизости, он поспешно перебежал дорогу, пыхтя и сгибаясь под тяжестью закинутого на плечи мешка с просом. Он запнулся о камень и выругался, вода выплеснулась из ведра.
Как только Эмиль приблизился к храму, в боковой стене со скрипом отворилась дверца. Отец Антон уже привык к поздним визитам, и они условились, что он будет ждать полуночного гостя возле двери.
Не пройдя и пары ступеней к церкви, Эмиль понял, что что-то не так. Раньше отец Антон выходил наружу, чтобы помочь ему с ношей, теперь же он остался возле двери. Внутри святилища юноша заметил, как устало обвисли плечи священника, рассмотрел его осунувшееся, измученное лицо. Самым старым в деревне был Константин Фогель, которому скоро исполнялось семьдесят пять зим. Этой ночью отец Антон казался даже старше него.
— Просто положи здесь, — устало прошептал он Эмилю.
Тот поставил ношу, но уходить не стал.
— Я помогу вам сделать кашу, — сказал юноша.
— Я сам, — покачал головой священник.
Для этих целей отец Антон переделал свою келью в кухню, а дымоходом служило окно. Где он спал — если вообще спал — Эмиль не знал.
— Вы слишком много берете на себя, — укорил его парень. Он махнул рукой в темноту церкви, где вместо убранных скамей размещались соломенные тюфяки для больных. — Вам нужна помощь.
В ответ жрец грустно улыбнулся.
— Если ты здесь останешься, они не дадут тебе уйти. Они слишком напуганы. И кто тогда будет приносить еду?
Отец Антон отвернулся от двери, и свет от лучины упал ему на лицо, Эмиль увидел, что на его глазах блестели слезы.
— Сегодня еще трое, — вздохнул он, бросив взгляд на алтарь и укрепленный над ним каменный молот. — Когда же это закончится?
Затем жрец обернулся снова к Эмилю.
— Зигмар оставил эту деревню, — с мукой в голосе проговорил он. — Ты должен уехать отсюда. Бери свою любимую и поезжайте, не оглядываясь. Найдите хорошее, чистое место подальше отсюда, такое, которое боги еще не забыли.
От отчаяния Эмиль вздрогнул и в то же время почувствовал укол стыда. Ведь они с Ренате уже много раз обсуждали отъезд из Хельмштедта. Даже сейчас, единственное, что его останавливало — это ее нежелание оставлять семью. Ему было противно оттого, что забрать любимую женщину туда, где она была бы в безопасности, означало бросить отца Антона и больных крестьян на произвол судьбы.
Впрочем, пока она отказывалась уезжать, Эмиль поддерживал священника всем, чем мог.
— Позвольте помочь, пока я здесь, — сказал юноша. Он поглядел на ряды тюфяков и лежащие на них стенающие тела. — Нельзя взваливать на себя столько. Чудо, что вы сами еще не подхватили заразу.
В ответ жрец печально прошептал:
— Здесь больше нет чудес. Зигмар оставил это место.
Дрожащей рукой он отвернул край холщовой мантии и показал шею. Эмиль отшатнулся в ужасе от увиденного. От самого горла и до плеча была почерневшая, покрытая волдырями кожа, обезображенная зловонными бубонами Черной смерти.
— Я был никудышным пастырем, — произнес отец Антон. — И по делам своим буду наказан вместе с остальными.
Держась тени, Эмиль пробирался по тропинкам Хельмштедта с тушкой гуся подмышкой. Птица была тощая и жилистая, но ничего другого за целый день шныряния по деревне в поисках еды найти не удалось. Она была заперта в сарае у Ксавера Маухера и, юноша и не подумал бы туда заглянуть, если бы не крошки корма возле двери. Он счел это удачей и улыбнулся, быть может даже, это был знак доброго расположения Зигмара, символ того, что человек, ставший когда-то богом, не оставил еще деревню. Когда донесет гуся, нужно будет спросить отца Антона. В Хельмштедте, конечно же, никто не смог бы лучше объяснить пути божьи.
Впрочем, какое бы расположение Зигмар ни оказывал Эмилю, оно улетучилось, стоило тому выйти из тени таверны Баумана. Парня уже поджидал Унгер со своими людьми. Когда крестьяне стали донимать старосту по поводу непрекращающихся краж, тот не на шутку разозлился. О существовании храма и его больных узниках большинство жителей предпочло забыть, но только не Унгер. Он все гадал, как они там до сих пор не перемерли, и отрядил туда людей — наблюдать и ждать.
Соглядатаи намеревались увидеть, как вор выходит из храма, и сперва никак не могли поверить, что тот тайком пробирается в зараженный дом. Они повскакивали со своих укромных мест и с изумлением уставились на Эмиля. Замешательство длилось недолго. Зажатый подмышкой гусь был веской уликой.
— Взять его, — прошипел Унгер, выходя из темноты.
Трое крестьян набросились на Эмиля прежде, чем тот успел сделать хоть шаг. Один выхватил гуся, двое других решили проучить при помощи дубинок. Не сводя с юноши злобного взгляда, Унгер широким шагом пересек дорогу.
— Проучите эту свинью, — прорычал он.
Тело Эмиля взорвалось болью, когда крестьяне взялись за него с удвоенной силой. Они колотили его по ребрам и по ногам. Когда он упал было наземь, ополченцы подхватили его под руки, чтобы он мог стоять. Несмотря на всю его решимость, крики боли срывались с его дрожащих губ, вызывая у мучителей смешки и довольную, глумливую ухмылку на лице Унгера.
Рукоять молота с хрустом врезалась в лицо старосты, и улыбка стерлась багрово-кровавым пятном. Выплевывая зубы и пытаясь закричать со сломанной челюстью, мужчина повалился на землю. Отец Антон стоял над вопящим человеком с тяжелым боевым молотом в иссохшихся руках и в черной сутане, надетой на худое тело. Лицо его ужасало больше, чем капающая с молота кровь. Живость и цвет, казалось, были высосаны и выбелены чумой. Отвратительные язвы и нарывы покрывали его тело, веки и ресницы отпали, так что на лице, как и на голове, больше не осталось волос. Рот был широко раскрыт — неестественно растянут болью от чумы.
Однако самыми ужасными казались его глаза. Истлев и оставив взамен ужасающую обреченность, исчез, освещавший их, суровый, но доброжелательный огонек. Глаза — это зеркало души, любил повторять отец Антон. Если в этом утверждении была правда, то, что за ужас поглотил сердце зигмарита, с содроганием подумал Эмиль.
Отец Антон окинул безжалостным взглядом ополченцев и их жертву.
— Псы! — сплюнул он. — Безверные шавки! И это наследие Могучего Зигмара? Неужели в этот судный час гордыня заставит нас обратиться друг против друга, чтобы заглушить страхи и сомнения? — Он поднял усохший почти до кости палец, указывая на возвышающийся над храмом шпиль. — Никто так не слеп, как тот, кто не желает видеть! — прокричал он. — Чума, которую вы так страшитесь... Это не погибель! Это наше спасение!
Безобразная кривая улыбка, растягивающаяся на лице жреца с каждым словом, была страшнее едкого презрения, сквозившего в его голосе жреца. Окружившие Эмиля ополченцы дрожали от страха. Почтительному отношению к жрецам Зигмара их учили с самого детства, и они выказывали им уважение и покорность почти такое же, как и благородным господам. Все, что было заложено в их головах, рушилось теперь, разъедаемое ядовитым страхом.
Сначала отодвинулся один ополченец, затем другой. Хватило нескольких шагов, чтобы робкое отступление превратилось в бегство. Эмиль жалобно смотрел им вслед, напуганный тем, что придется остаться один на один с ужасным призраком отца Антона. Но совсем скоро увидел, как из темноты появились тени и накинулись на бегущих. Юноша закрыл глаза и заткнул уши, чтобы не слышать их криков и звуков отчаянной, но недолгой борьбы.
Когда он отважился открыть глаза, отец Антон пристально смотрел на него. Злое пламя чуть потускнело в его взгляде, и слабое эхо прежней доброты пыталось пробиться наружу.
— Уходи, — произнес он, указывая молотом на дорогу. — Ты уже доказал свою верность Зигмару.
Он заметил, что Унгер зашевелился и повернулся к нему. Староста вяло извивался в руках двух черных фигур, которые тащили его к храму.
— Иди, — повторил отец Антон, теперь его голос эхом гремел по всей площади. — И не страшись тьмы, ибо для того, кто хранит в себе веру в Зигмара, в ней нет ничего.
Содрогающийся от ужаса юноша с радостью подчинился приказу жреца и побежал прочь от призраков. В облике похитителей было что-то неестественное и богохульное, а от их плащей разило чумной вонью.
— Из деревни нужно бежать, — сказал Эмиль.
Любовники спрятались в темноте на сеновале Рольфа Венера. Здесь их точно никто не побеспокоит, ведь Рольф умер от чумы две недели назад, и его хижина и другие строения во дворе были помечены белым крестом. Границы владений Морра в Хельмштедте никто не смел переступать.
По крайней мере, раньше так было. При мысли о той ужасной ночи, когда отец Антон появился из храма, чтобы забрать с собой Унгера и его ополченцев, Эмиль едва сдерживал дрожь. Никого из тех крестьян больше не видели. Впрочем, староста и его люди были только началом. Стали пропадать и другие, целые семьи исчезали по ночам. Был на двери чумной крест или нет, кажется, нигде уже нельзя было укрыться от рыщущей по деревне погибели.
— Я не оставлю родных, — в который раз уже возразила Ренате. Со слезами любви и сожаления она поцеловала руку Эмиля. — Я не могу уйти от них, особенно, когда все так обернулось.
Эмиль отпрянул от ее объятий. Он пытался здраво смотреть на вещи, пытался понять ее, но никак не мог вбить ей в голову мысль, и злился от досады.
— Ты же просто не видишь, — проворчал он. — Если мы останемся здесь, мы умрем! Вот, как все у нас обернулось!
Он поднялся и распахнул ставни, выходящие дорогу. Почти сразу до них издалека долетел едкий голос отца Антона.
— Послушай! — выпалил Эмиль. — Вот, что чума сделала с самым добрым жителем Хельмштедта! Она превратила его в обезумевшего монстра! Раньше он говорил о надежде и милости божьей, теперь же проповедует о суде и очищающем огне Зигмара!
Ренате покачала головой.
— Прошу, Эмиль. Я не могу их покинуть! — всхлипывая, пролепетала она.
Столько муки было в ее голосе, что юноша насупился, и чуть было не уступил ей. Но та же любовь, что заставила его сомневаться, дала ему сил, настоять на своем.
— Все эти пропавшие люди: Маухер с семьей, Унгер, даже старая Катрина? Они никуда не пропадали! Я хоть сейчас могу их найти! — выпалил он, щелкнув для эффекта пальцами. — Они заперты в храме, и отец Антон готовит их к очищению для Зигмара!
С этими словами Эмиль глянул на деревню. В сгущающихся сумерках было видно, как по улицам скользят фигуры в плащах. Это «праведники» отца Антона отправились за очередной семьей грешников, чтобы жрец мог спасти их. От этого зрелища сердце его похолодело, а к горлу подкатил желчный ком.
— Я не могу пойти, — рыдая, настаивала Ренате.
— Послушай парня! — рявкнул грубый голос.
Любовники обернулись и возле лестницы, ведущей на сеновал, с изумлением увидели Юргена Альтштёттера. Прежде чем они смогли заговорить, фермер уже шагал к ним.
— Герр Альтштёттер... — начал было Эмиль, но тот метнул в него злобный взгляд.
— Не знаю, сколько ты уже таскаешься за моей дочерью, — прорычал Юрген. — Лапаешь ее своими грязными штуккартовскими руками... — он приумолк и закрыл глаза, чтобы восстановить самообладание. — Меня это не волнует, главное, забери ее отсюда.
— Папа! — закричала Ренате, бросившись к нему. — Я не оставлю вас с мамой одних!
Не глядя, Юрген отпихнул ее в сторону, его злобные глаза были устремлены прямо на Эмиля.
— Увези ее из Хельмштедта, — произнес он. — Плевать, кем был твой отец, сделай это и получишь мое благословение.
Изумленный юноша не мог вымолвить ни слова, от невероятного поворота событий у него голова шла кругом. Во всей манере Юргена была явственно видна едва сдерживаемая ярость. Только отчаяние побудило его обратиться к сыну человека, которого он считал своим злейшим врагом, и лишь оно смогло побороть его жгучую ненависть.
Сообразив, что за соглашение устанавливалось между ее отцом и любовником, Ренате запротестовала:
— Не пойду!
Но упрямо стиснутая челюсть и непреклонный характер Юргена заставили ее поспешить с мольбой к Эмилю. Она бросилась к юноше и обвила его своими руками, и тот почувствовал, как внезапно напружинилось ее тело. За его спиной, девушка заметила фигуры в плащах, шныряющие по улицам. Более того, она увидела, куда и к какому дому крались эти разбойники.
— Мама! — завопила Ренате.
Она вырвалась из объятий Эмиля и, прежде чем Юрген смог вмешаться, бросилась к лестнице. Отец бросился за дочерью в тот же миг, но Эмиль замешкался и, взглянув в окно, увидел, что заставило девушку пуститься в бегство. Последователи отца Антона собирались вокруг хижины, принадлежащей семье Альтштёттеров.
С руганью и замирающим от ужаса сердцем юноша кинулся к лестнице, чтобы присоединиться к погоне за Ренате. Если не поймать ее до того, как она доберется до дома... Если она войдет в хижину, когда там буду люди жреца!..
Эмиль попытался прогнать эти мысли из головы. Готовая уже сорваться с губ, молитва стихла. Отчего-то ему казалось, что в борьбе с одним из своих жрецов Зигмар не станет помогать простому крестьянину.
Что есть духу он мчался к дому Альтштёттеров. На бегу звал на помощь, умоляя и упрашивая жителей остановить похищение соседей. В ответ ему лишь запирали двери и ставни. Крестьяне знали, что происходит в Хельмштедте, но еще несколько недель назад сделали свой выбор, и вместо того, чтобы открыть правде глаза, спрятались от нее.
Не успел Эмиль завернуть за угол, как звуки борьбы подсказали ему, что он опоздал. Над телом Юргена стоял закутанный в плащ человек. В необычно волосатой и кривой руке фанатика была толстая дубина. Прямо на глазах перепуганного Эмиля он занес свое грубое оружие и снова изо всех сил ударил Юргена по уже окровавленной голове.
Эта несдерживаемая жестокость, пусть направленная на человека, которого Эмиль ненавидел, привела его в ярость. Одного только разгоравшегося в груди бешенства хватило бы, чтобы он бросился на разбойника в плаще. Однако подгоняло его и другое. Позади того, что убил Юргена, он увидел еще нескольких подручных отца Антона, а также сестру и мать Ренате, которые пытались вырваться из их безжалостных рук. Еще он увидел саму Ренате, которую тащила прочь пара зловещего вида фанатиков.
Закутанный в плащ убийца вздрогнул от неожиданности, когда Эмиль накинулся на него. Не успел он подумать о том, что нужно защищаться, как мстительный юноша с неистовой силой вцепился ему пальцами в горло. Фанатик выронил дубину и замахал руками. Пытаясь оторвать от себя крестьянина, он принялся царапать его руки, и тогда пришла пора удивляться Эмилю.
Противники были всего в нескольких дюймах друг от друга, но из-за тени, которую бросал капюшон, Эмиль не мог разглядеть лица. Зато он увидел руки, которые хватали и терзали его — и одного их вида хватило, чтобы ужаснуться. Нелепо было даже называть их руками, ибо они больше походили на чудовищные лапы, пальцы были длиннее и уже человеческих, а оканчивались они острыми звериными когтями. Эти лапы были полностью покрыты — даже не волосами, но шерстью — вонючей коричневой шерстью, которая довершала сходство этого существа с животным.
Ужас и отвращение, которое Эмиль испытал при виде этой твари, заставили его ослабить хватку. Существо в плаще с невероятной ловкостью юркнуло на свободу и по-звериному отпрыгнуло в сторону. Юноша чувствовал, как из темноты капюшона на него злобно глядят глаза.
Прежде чем Эмиль смог набраться смелости, чтобы опять броситься на врага, его голова взорвалась оглушительной болью. Падая на колени, он заметил еще одну фигуру в плаще и с тяжелой дубинкой. Это она ударила его сзади, и пока он смотрел, создание вторично обрушило свое оружие ему на голову.
Короткая вспышка боли, чувство, как лицо утыкается в землю, и Эмиль провалился в благостное забытье.
Сознание медленно вползло в голову Эмиля, и милосердное беспамятство покинуло юношу. Он пришел в себя, и первым его ощущением стал слух: до него донесся ропот и стоны, и плач людей. Следом пришел тошнотворный запах, вонь болезни и людской грязи, мерзкий смрад Черной смерти. Последней спала пелена с его глаз, и тогда он увидел, в какой ад был ввергнут.
Храм лишь отдаленно напоминал то тихое и святое место для размышлений и молитв, которое Эмиль помнил с самого детства, но он сразу узнал его. Скамьи были разломаны, и их доски пошли на многоярусные койки с грязными соломенными тюфяками. В каждой из этих сколоченных наспех кроватей лежал несчастный. Кое-кто из больных еще шевелился, стеная от боли и пытаясь бороться с болезнью, терзающей их раздутые, усеянные бубонами тела. Другие тихо лежали на своих смертных одрах, гниющие и забытые, они уставились в потолок невидящими глазами.
Повсюду в этой жуткой картине сновали существа в плащах, откинутые капюшоны которых открывали крысиные головы. Когда Эмиль рассмотрел, как нелюди обнюхивают своими вытянутыми рылами больных крестьян, он почувствовал, как скрутило желудок. А, когда услышал их попискивание, пародию на осмысленную речь, у него голова пошла кругом. У одного из чудовищ был при себе кусок кожи, на котором то делало заметки испачканным чернилами когтем. Зрелище напомнило Эмилю, как его отец осматривал баронскую скотину, делая заметки о каждой болячке или ином дефекте. От этого жуткого сходства чистый ужас пустился по его жилам.
Попытавшись подняться и бежать, Эмиль неожиданно обнаружил, что связан по рукам и ногам и мог только беспомощно извиваться на холодном каменном полу. Его отчаянные попытки освободиться лишь привлекли внимание крысолюдов. Какое-то зловонное создание, с пораженными грибком рогами, выдающимися из головы, ухмыльнулось ему, обнажив резцы, затем рявкнуло на других чудищ и спешно засеменило к алтарю.
Рогатый крысолюд вернулся через несколько мгновений, и Эмиль с мукой в глазах посмотрел на человека, который сопровождал чудовище. Ни капли сочувствия и теплоты более не осталось во взгляде отца Антона.
— Почему? — спросил Эмиль.
Даже теперь его разум силился понять ту ужасную метаморфозу, которая превратила того из святого в демона.
Жрец вздохнул и покачал головой.
— И ты, Эмиль? Даже твоя вера так слаба, что ты тоже не видишь и разделяешь их заблуждения?
— Единственное заблуждение, которое я вижу — это ваше безумие! — зло рявкнул юноша. — Что же вы не замечаете ужаса вокруг?
Лицо жреца вспыхнуло гневом, но, когда он заговорил, тон его был спокойным и снисходительным, как будто взрослый пытался втолковать что-то особенно глупому ребенку.
— Послушай, Эмиль, и попытайся понять. Все, что ты знаешь, во что веришь — ложь. Праздность и грех внутри тебя туманят твой разум. Они делают твою душу слепой ко всему вокруг. — Отец Антон развел руки, как бы обхватывая ими весь храм. — Как великодушный и мудрый бог может не замечать этих страданий? — Этот вопрос с горячим презрением сорвался с его губ. — Нет, такого не может быть! Абсурдно даже помыслить об этом! И все же эти жалкие, маловерные душонки вопят о том, что боги оставили человечество! Да, Эмиль, даже ты сомневаешься, но скоро сам поймешь, насколько ошибаешься.
— Хворь эта не от мира сего. Ее ниспослали боги, но это не проклятие. — Для пущего эффекта отец Антон потряс вскинутыми вверх руками. — Бедствие это — их благословение и освобождение людей! То, что мы клянем чумой, на самом деле есть пламя Зигмара, сошедшее на землю, дабы очистить ее.
Эмиль вздрогнул.
— Вы безумец!
Будто не замечая этого выпада, жрец продолжал:
— В порочности своей люди бегут от величайшего испытания их добродетелей, ибо они в самой глубине души знают ту мерзость, коей запятнали свои души. Они понимают, что должны сгинуть в очищающем пламени, но вместо того, чтобы покаяться в своих грехах, они все так же тянутся к ним. Будто бы зло может дать им сил, чтобы противостоять Могучему Зигмару!
Эти слова вызвали пронзительный, чирикающий смех у рогатого крысолюда, который стоял возле отца Антона. Жрец указал на чудовище.
— Узри же обличье зигмаровых слуг! Чудовищные по своей форме и дарованные нам во всем своем отвратительном великолепии. Посланные, учить людей смирению и очистить их от гордыни. Всмотрись в их крысиные морды и увидишь отражение души человеческой! Вот как низко мы пали. Вот в каком отвратительном состоянии пребывают наши души.
Отец Антон отвернулся от Эмиля и кивнул двум крысолюдам. Существа набросились на крестьянина и подняли его на ноги. От их омерзительного прикосновения, у Эмиля волосы встали дыбом, он попытался вырваться из их цепких лап.
— Не противься, — проговорил жрец, и его изъеденное болезнью лицо исказила отвратительная улыбка. — Тот, кто достоин, тот, чью веру не запятнала скверна этого мира, выдержит суд зигмаровым огнем. Будет очищен от всех сомнений и страхов. Переродится, став подлинным сосудом Зигмара, возможно даже, таким, как я!
С ужасом осознав, что задумал жрец, Эмиль разрыдался. Собрать в одном месте больных хельмштедтцев было для него недостаточно, отец Антон вознамерился распространить заболевание, нести свое жуткое «очищение» всем жителям деревни, в один дом за другим. Теперь в голове Эмиля буйствовал новый страх, какого он не испытывал прежде. Он решил в последний раз воззвать к тому человеческому, что теплилось еще в отце Антоне.
— Делайте, что хотите, — сказал он. — Только отпустите Ренате.
Лицо жреца осталось неизменным, и Эмиль застонал.
— Ренате Альтштёттер! — прокричал он. — Ваши крысы похитили ее сегодня ночью!
Жрец печально кивнул.
— Я думал, что ты другой, Эмиль. Но как же я заблуждался. Даже сейчас ты гонишься за греховными и плотскими иллюзиями. — Жестом он поманил крысолюдов, которые держали крестьянина. — Отведем его к девчонке.
— Во имя всего милосердного! — выл Эмиль, пока крысолюди тащили его меж койками. — Да отпустите же ее!
Отец Антон остановился у одного из тюфяков и повернулся лицом к Эмилю.
— Милосердие дается лишь добродетельным.
— Вам ли говорить о добродетели? — набросился на безумца Эмиль.
— Судить не мне, — ответствовал жрец. — То дело Великого Зигмара.
С этими словами он посмотрел на тело, распростертое на койке. Когда крестьянин проследил за его взглядом, из глаз его снова покатились слезы — на постели была Ренате. Девушка лежала на спине, ее руки и ноги были привязаны к доскам. Там где ее тело не было покрыто черными бубонами, кожа была молочно-бледная, лицо искажено от боли, зубы стиснуты, на лице застыла маска агонии. В глубине голубых глаз лишь зияла холодная пустота.
Ренате была мертва.
— Должно быть, грехов ее было очень много, раз зигмарово пламя поглотило ее так быстро, — проговорил отец Антон, почти не замечая бессвязные рыдания пленника.
Он снова кивнул чудовищным охранникам. Пыхтя от натуги, те приподняли Эмиля и перевалили его на койку. Не обращая внимания на отчаянные усилия крестьянина высвободиться и бежать от переполняющего его беспредельного ужаса, мерзкие пальцы привязали юношу к трупу Ренате.
— Пламя оставит мертвую плоть, — сказал жрец. — И перейдет к тебе. Если ты достоин, Зигмар пощадит тебя.
— Умоляю! — проскулил Эмиль. — Это безумие!
Жрец с грустью покачал головой.
— Я помолюсь за тебя, Эмиль, — произнес он и пошел дальше по проходу.
Рыдающий юноша пытался освободиться от пут. Он зажмуривался что было сил, только чтобы не видеть лежащее рядом холодное тело Ренате.
Вскоре он услышал грохочущий голос, богохульную проповедь, превозносящую мощь Зигмара и сулившую божественное очищение всему сущему.
Насмешливого хихиканья чудищ, которых воспаленный разум жреца принимал за божественных посланников, отец Антон не замечал.