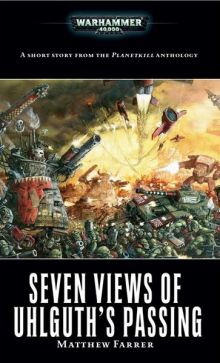Семь картин ухода Ульгута / Seven Views of Uhlguth's Passing (рассказ)
| Автор | Мэттью Фаррер / Matthew Farrer |
| Переводчик | Dammerung |
| Издательство | Black Library |
| Входит в сборник | Гибель планет / Planetkill |
| Год издания | 2008 |
| Подписаться на обновления | Telegram-канал |
| Обсудить | Telegram-чат |
| Экспортировать | EPUB, FB2, MOBI |
| Поддержать проект
| |
Ульгут плывет среди безумия, купаясь в бесконечных изменчивых волнах, что омывают Великую Рану и бурей вырываются из нее. Ульгут – могучий и драгоценный, вечный и ржавеющий, поглощающий и растущий. Ульгут силен. Ульгут не нужен. Ульгут скорбит.
Хозяин Ульгута покинул его. Откуда-то из-за пределов его восприятия пришел хозяин над хозяином Ульгута, военачальник, чей разум был настолько ожесточен, что жег чувства Ульгута, будто раскаленная игла. Он вел войну, какой здесь не видели на протяжении многих жизней, сбивал всех маленьких хозяев в огромную единую массу и вел их сражаться в какое-то огромное место снаружи, не поддающееся пониманию Ульгута. Прекрасный хозяин Ульгута взял всех своих детей-воинов, которые летели на спине Ульгута сквозь вечную лихорадочную бурю, и ушел прочь, за маленьким хозяином с раскаленной душой.
Ульгут знает свою мощь, свою ценность. Другие хозяева раньше пытались его украсть. Скоро они попытаются снова. Уже сейчас он чувствует, как первый из дерзких хозяев-самозванцев пытается опутать его цепями.
Ульгут никогда прежде не оставался в одиночестве. Ульгут скучает по хозяину. Ульгут не хочет нового хозяина. Ульгут хочет старого хозяина. Ульгут знает, что должен сделать.
Картина Первая: В тронном зале
Помещение меньше, чем орбита электрона…
…но оно мигает, растягиваясь на световые годы, едва его касаются чувства наблюдателя.
Оно создано из несокрушимого камня и кости демонских бивней…
…но когда наблюдатель отводит взгляд, это место обращается в ничто, хихикающие тени и вакуум.
Оно полнится хищными силуэтами и искаженными от злобы существами из снов…
…но если князь, восседающий на троне, когда-либо поднимет взгляд, он увидит этот зал пустым, полным лишь одиночества.
Существо, сидящее на спинке трона, щелкает клювом и дрожит от веселья, слыша, как эхо придает случайным звукам искажающиеся и изменяющиеся зашифрованные значения. Его переполняет нетерпение, оно хочет резвиться среди нематериального шторма со своими сородичами, но приказ хозяина привязывает его ко двору, где он должен служить посланником до тех пор, пока прихоть хозяина не изменится.
При этой мысли пернатое создание (у которого было много имен, или, возможно, не было ни одного – ведь к именам не надо относиться серьезно, все меняется, так почему бы не меняться и имени?) издает вопль восторга, и роящиеся тени визжат в ответ.
Прихоть хозяина изменится, несомненно! Ведь он – Великий Заговорщик, Картограф Судьбы, Оракул Проклятья, повелитель запутанностей и премудростей, испытывающих ум богов, Кукловод, Предок Чародеев, Первый и Последний Манипулятор! Пернатое создание подпрыгивает и каркает, с восторженным почтением осыпая титулами своего владыку. Его хозяин – мастер хитроумия, скрытности и манипулирования. Зачем воплощению абсолютного, коварного контроля обращать собственные планы в ничто по воле мимолетной прихоти?
С клекочущим смехом посланник взмывает в космос, крылья его высекают радуги из пустоты, когти блещут то бесцветной слоновой костью, то сверкающим стеклом, изумрудные зубы вырастают из клюва, а затем исчезают.
Поддаться мимолетной прихоти? Как же ему сдержать себя? Ибо его хозяин — не его хозяин, ибо его хозяин — хозяин никому. Он – Изменяющий Пути, Непредсказуемая Душа, Король Двора Повелителей Перемен, случайность, возрождение, капитуляция перед бесконечными, беспорядочными капризами. Как может воплощение бесконечной энтропической бессмысленности варпа противостоять разрушению системы, даже той, что само же и создало?
Существо-посланник, чьи перья – то чистый свет, то щелкающие костяные лезвия, окутанные кобальтовым дымом, лениво кувыркается над троном, с удовольствием разговаривая само с собой. Оно рассказывает себе, что это такое – быть ему подобным. Оно рассуждает о даре чистого инстинкта, находя его отголоски в дальних родичах пернатого создания, облаченных в кровь и бронзу. Дар чувств оживает в облике утонченных воплощений святотатства, служащих самому младшему из братьев хозяина как страстной жизнью, так и ликующей смертью. Меланхоличным соперникам, ревнителям гниения, он не определяет какого-либо дара: их, как решил посланец, характеризует то, что они отвергли свои дары и погрузились в мертвенное отчаяние. И, наконец, есть его собственный блистательный хозяин, который, как заявляет посланник, воплощает дар разума.
И вот то, что понимает его разум: хозяин разуму не поддается. Он – это покровитель познания, и он – воплощение вероломного недопонимания, которое делает знание ложным. Он – это архитектор, создающий тысячи заговоров, и он же – вихрь случайностей, которые приводят планы к провалу. Он – ярчайший свет ума, и он – непостижимое нечто, скорчившееся в тенях, порожденных этим светом. Весь варп – это противоречие, ибо по природе своей он искажает реальность до тех пор, пока невозможное просто не сможет не существовать. Его хозяин – невозможность в самом чистом виде, гармония и единство Х и не-Х, создающая из них симметрию, расцветающую подобно множеству Мандельброта, где каждый лепесток разделяется на собственные прекрасные, сводящиеся сами к себе противоречия, и так до бесконечности.
Кружа, посланник поет сам себе о ненависти, ненависти к себе и парадоксе не-естественности. Варп – место не-формы, не-логики, свободное от стесняющего порядка. Но ограниченные умы, живущие в пустынном космосе, своими отзвуками наносят отпечатки на эту счастливую бесформенность, придавая ей мыслеформы, даже не осознавая, что создают их. Смертные населяют это великое море отражениями собственных несчастных скованных умов, и каждая мыслеформа – сводящий с ума саркофаг для сознания, которое жаждет раствориться, снова обратиться в блаженную энергию.
Но представления, созданные воображением, также отпечатывают на этих сознаниях величайшее желание живых существ – потребность выжить. Каждый миг – это война. Ненавидя и стремясь уничтожить навязанные им формы, и ненавидя саму мысль об уничтожении, они яростно цепляются за свое личное существование. Неудивительно, что их воплощения столь свирепы, а их жажде насилия нет конца!
Только хозяин по-настоящему понимает это, самодовольно думает создание-посланник, зависнув в воздухе. Только хозяин поборол противоречие, приняв его, внедрив парадоксальные отличия так глубоко в свою душу, что стал владыкой над парадоксом и антилогикой, исказив значение значения и превратив его в нечто, внутри чего он мог существовать. Что за прекрасный тембр бытия – жить в услужении фундаментальному противоречию в сердце этого самого бытия!
Мысли его взметаются вихрем, и задумчивость проходит. Верное своей природе, оно меняет прихоть: довольно размышлений! Оно желает развлечься! Шуршащие мыслебесы чирикают и шепчутся, чувствуя, как меняются помыслы их переменчивого повелителя. Наружу, сквозь переливающиеся и срастающиеся стены, посланник направляет взор, подобный бело-голубому металлическому ветру, окутанному жесткой, как проволока, красной пеной. Он шарит взглядом по космосу, мутному от излияний варпа из Раны, оставляя определенные образы на всем, чего касается, и тут же вновь обращая эти образы в бесформенность, извлекая значения и толкования, которые не могут воспринять ни разум, ни чувства смертного.
Жаркий, как залп боевого корабля, холодный, как сердце предателя, его взгляд падает на Ульгута.
Что за экземпляр! Крылатый демон воркует, кружась в полете и сжимая когти. Пернатому посланцу есть чему порадоваться – так много смыслов и качеств, обращающихся против себя же. Вот яростная, пылающая верность, которую существо видит как многомерный конус, светом исходящий из тела Ульгута; вот отверженность и одиночество, которые оно слышит как дрожащие отзвуки плачущей души Ульгута. Верность – это его проклятье, смертный приговор. Немного грубо для изысканно-тонких аппетитов посланника, которые тот питает к противоречиям и предательствам, но все же это богатый вкус: жалкий, безмозглый, ищущий что-то на холодном бессмысленном пути, гнев, несчастье, обреченные надежды.
Взгляд посланника вызывает к жизни каскад миражей в волне, катящейся перед Ульгутом, запоздалые отзвуки, отброшенные назад по кривой времени.
Он видит, как Ульгута вынуждают сражаться посреди гнезд сияющих червей, чьи песни соединяют звезды. Он видит, как рушатся крепости, как разваливающиеся на куски звездолеты клеймят кожу Ульгута термоядерным огнем, и целые миры вращаются и трескаются, обнажая нутро. Он видит ужас и агонию, пронзительный скрип рвущихся цепей, щелканье механических глаз, взирающих на труп Ульгута.
Пернатое существо хихикает, видя путь гигантского зверя, изгибающийся под давлением его внимания. Оно мечтает вырваться на свободу, прочь из тронного зала, выследить Ульгута, одурманить и запутать его, окутать его слабый разум обманами, завернутыми в истины, раскрашенные серой полуложью, выпустить из него, как кровь, те мелкие глупые истины, в которых он уверен. Если хозяин бросил Ульгута, разве это не доказало, что он ложный хозяин, и, следовательно, почему бы ложному пути не быть ближе к истине, чем истинный путь, ведущий к ложному хозяину? Оно бросает взгляд на путь Ульгута и осознает, что и само уже не знает, истинный ли это путь или ложный.
Повелитель Перемен складывает крылья и пикирует, как сокол, молниеносно проносясь мимо подлокотника трона и закручивая спираль вокруг подножия. Его взгляд больше не прикован к Ульгуту, но искрит, вихрится и светит, где пожелает. Какое приятное развлечение, мимолетный, но совершенный восторг, которым можно похвастаться, когда он снова взгромоздится на насест со своими сородичами посреди раздробленных и струящихся мыслей его хозяина. Он щебечет и каркает, хлопает мерцающими крыльями, щелкает опаловым клювом, чествуя собственную жестокость и великолепие.
Под ним князь, которому принадлежит этот зал, пребывает в размышлениях, подперев подбородок кулаком. Внимание его, возможно, привлечено к Ульгуту или же проходит мимо Ульгута в космос смертных, или же витает в местах, о которых не должен знать разум. Он молчит, око его не открывается, а мысли далеки, глубоки и безмолвны.
В этом месте Ульгут окружен дымными, образующими сгустки энергиями, что постоянно испаряются, обращаясь в ничто, или мельком порождают твердое вещество или даже краткие жизни.
Его горе — кислотные миазмы, от его эмоций космос сворачивается, как молоко, в ползучий полуреальный дым, который жжет его нервы так же, как потеря жжет душу. Он пытается проследить путь хозяина, напрягая чувства, воспринимающие виды ада, звуки разума и запахи души, но следы возлюбленной порчи на душе хозяина так сложно разглядеть, что это сводит с ума.
В конце концов, Ульгут не выдерживает. Он начинает биться и плыть за хозяином, но осознает, что его что-то держит.
Картина Вторая: Дхолчей и Князь Цепей
Чем бы Князь Цепей не был раньше, это место изменило его. Вихрь пандемониума содрал с него все, оставив лишь самый примитивный инстинкт: желание подчинять и властвовать. Поэтому он редко настолько близко приближается к Ране, когда власть рушится, а структура перестает существовать. Для него это адская мука: как он может быть Князем Цепей, Мастером Пленения в месте, где эти понятия просто ничего не значат?
Но в Ульгуте он увидел добычу, достойную риска. Заковать Ульгута — вот это, думает Князь, принимаясь за работу среди лун, будет настоящим триумфом.
Эти луны — слабо пульсирующие пузыри, наполненные мягким светом. В каждой капсуле — розовое, похожее на зародыш существо размером с континент, извивающееся в молочно-белой околоплодной эмульсии. Луны соединены длинными пуповинами из собственной растянутой кожи, сотни их образуют гигантскую цепь, которая тянется вдаль, к клокочущему энтропийному шторму Раны и сквозь нее наружу, пока не теряется вдали. Отсюда, от лун, Князь Цепей мечет вниз свои оковы, чтобы вонзить их в шкуру Ульгута.
Князь Цепей создает узы, а в это время Дхолчей всеми силами старается их разрушить.
С ним случилось то же, что с Князем – сокрушительная сила, с которой эта реальность обрушивается на душу, выжгла то, чем когда-то, возможно, был Дхолчей. Он подозревает, что некогда был смертным — иногда он уверен, что помнит космос цвета костяной черни, а не это вечное раскаленное сияние, и звезды, что светятся ярко и ровно, вместо этих зловещих ухмылок, что приковывают взгляд и гложут разум.
Дхолчей знает только, что однажды он явился в это пространство возле Раны, и там его разорвали на куски.
Ему позволили сохранить свое имя. Очевидно, это была шутка, которая давала понять, что у него отняли. Ни памяти, ни прошлого, ни материального тела. Все, что осталось у Дхолчея — имя, боль и жажда разрушать.
Дхолчей — это плотно сжатая комета из призрачного черного пламени, откуда пристально смотрят полные мольбы и ярости красные глаза. С причитаниями пролетает он мимо луны-пузыря – то, что находится внутри нее, машет лишенными кожи руками и стонет в ответ – а затем обрушивается на цепи. На мгновение Дхолчей чувствует краткую перемену в своей нескончаемой боли — не облегчение, но изменение ее природы – затем его горящее тело начисто прожигает цепь, и отсеченные концы, как кнуты, хлещут сквозь пространство. Но столь незначительное разрушение не утешает Дхолчея. Он разворачивается, чтобы совершить большее, образуя огромный черный полумесяц на фоне корчащихся красок космоса.
Но цепь снова на месте. Князь воссоздал ее. Да, он сделал это дважды, а затем крест-накрест соединил эти две цепи и луны над ними «кошачьей колыбелью» оков, и это все за время, что понадобилось Дхолчею на разворот. Тот вопит от оскорбления и бросает себя вперед, словно дротик. Он встречает Князя Цепей под искаженным лицом существа внутри ближайшей луны.
Князь Цепей сам сделан из цепей, глянцевито-черных и медных, скрученных и сплетенных, позванивающих друг о друга, пока он ждет приближающегося Дхолчея.
– Какой тебе от этого толк? – требует он ответа. Новые цепи крепче старых, и когда Дхолчей мечется взад-вперед между ними, звенья тускнеют и деформируются, но остаются целыми.
– Эта добыча не для тебя, – продолжает Князь. – Что ты с ней будешь делать? Жаловаться на нее, как ты жалуешься на мои цепи? Порхать вокруг нее, пока не надоест? Лети своей дорогой, мелкая горящая тварь. У меня есть работа.
– И поэтому мы противостоим друг другу! – кричит Дхолчей, пламенем пролетая рядом. – Моя работа — конец творению, моя работа не имеет конца! Я разрушу твои работу, тело и душу. Они малы, но тогда мне останется разрушить на три вещи меньше.
Голос Дхолчея — постоянный крик боли и гнева, который он будет исторгать, покуда не умрет, и слова его перемежаются воплем, неровно, двойственно гармонируя.
Князь Цепей задумчиво направляет еще один захват к кроваво-красной спине Ульгута и вытягивает из другой руки щупальца более тонких звеньев. Он ощущает раздражение и презрение к этому существу, которое пало перед энтропийной природой этого места и само стало разрушителем. Но при этом он заинтригован. Как можно пленить такое существо, как Дхолчей? Может быть, живой цепью, которая будет восстанавливать себя так же быстро, как будет плавить ее черный огонь? Кандалами из перекрученной пустоты, в которой разрушение не найдет себе цели? Интересная задача, которой можно будет заняться после окончательного пленения Ульгута.
Паутина из оков содрогается. Князь ощущает это сверхъестественным чувством, более острым, чем у любого примитивного нервного окончания, чувством, настроенным на силу, контроль и власть. Лунные существа ноют в своих пузырях, их гнев достаточно силен, чтобы отбрасывать тени в густом пространстве вокруг них. Князь туже стягивает сбрую и подготавливает новую цепь. Он полон уверенности. Он не встречал существ, которых не знал бы, как связать.
– Злорадствуй, ничтожество! – кричит Дхолчей, снова приближаясь, и звенья распадаются в его горящем теле. Тени, созданные гневом существ в пузырях, уже наполовину реальны, они крушат и грызут друг друга. – Твои насмешки – ничто, и я обращу тебя в ничто!
– Если моя работа так тебя оскорбляет, то, подозреваю, ты ошибаешься в моей природе, – несколько запальчиво отвечает Князь. Он чувствует, что его цепи двигаются так, как не должны двигаться. Ему не нужно, чтобы Дхолчей отвлекал его.
– Я — не союзник тебе в этом разрушении, о котором ты все стонешь, – продолжает он, в то время как Дхолчей снова оказывается рядом, и еще одна цепь исчезает, как дым. – Разрушить — значит признать свой собственный конец. Это — действие сломленного животного, раба, мелкого беса, который не видит ничего, кроме того, что ему внушил хозяин. Связывая, я творю, а навязывая свое творение космосу – объявляю себя выше него. То, что ты направляешь свою жажду самоуничтожения наружу, а не внутрь, не наделяет ее ценностью.
Князь умолкает, услышав надрывный стон цепей. Это не просто сотрясения от атак, с тревогой осознает он. Что-то иное идет не так.
– Твои слова бессмысленны, ибо ты не понимаешь! – воет Дхолчей, входя в огненное пике и рассекая одну из опорных цепей Князя, отчего меж лун проносятся ударные Волны. – Материя вселенной должна быть сокрушена, чтобы не осталось ни атома, а затем и порядок, на котором существует материя, должен сгореть, чтоб не осталось ни одной аксиомы! Пока есть бытие, есть и боль, и я буду разрушать до тех пор, пока во мне живет боль, пока бытие не исчезнет и перестанет меня мучить!
Князь Цепей содрогается. Дхолчей выразил в словах тот ужас, что стоял за его навязчивой идеей. Бесформенность, дезинтеграция, распад, которые он должен отсрочить, заковав все мироздание и подчинив его своей воле.
Пойманный в ловушку между всплеском собственного страха и нападениями Дхолчея, Князь теряет бдительность, пока снова не раздается чудовищный скрежет цепей, вытесняя из его разума все прочие помыслы. Он с трудом осознает, что происходит: Ульгут двигается. Добыча пытается сбежать, а его работа закончена едва ли наполовину.
Князь Цепей отчаянно пытается упрочить оковы, сплетает новые узы и мечет их во всех направлениях, а Ульгут бьется, силясь вырваться из плена. От движения луны-зародыши начинают визжать, психические выбросы их терзаний порождают в пустоте радуги и чудовищ.
Тщетно. Ульгут слишком силен, а Дхолчей чересчур отвлек его. Князь Цепей в ужасе кричит — цепи лопаются одна за другой, и его разум и душа истекают через разорванные связи. Ульгут начинает уплывать прочь, и паутина Князя рвется в клочья, по инерции отшвыривая его прочь.
Дхолчей следует за ним, не сбиваясь со следа. Дезориентированный, ошеломленный, Князь не успевает даже испугаться, когда вдруг, повернувшись, видит растущий шар черного пламени и багровые глаза Дхолчея, что становятся все больше и больше.
Верный своей природе до конца, Князь вытягивает пальцы из тонких медных звеньев и пытается создать сеть. Но силы в нем больше нет. Дхолчей прорывается сквозь него, пропитывает его черным огнем, и воля Князя выдерживает лишь миг, прежде чем он разрушается. Его тело лопается, как кокон, и обрывок духа внутри корчится и тает, обращаясь в ничто.
Позади всего этого Ульгут тяжеловесно двигается дальше. Вереница лун-пузырей разражается воплями, ибо по пути он цепляется за узы, разрывает их пуповины, и жизнь вытекает из них в космос. Приближение их гибели ощущается по всему искаженному пространству-времени этой реальности, и вскоре их окутывают пускающие слюну фиолетовые тени.
Дхолчей не видит, не думает об этом. Нет разрушения достаточно великого, чтобы удовлетворить Дхолчея, кроме разрушения всей реальности, а затем окончательного уничтожения себя самого. А уничтожить все до последней вещи во вселенной — это работа, которая займет целую вечность, неясную, полную боли, ненависти к себе и пустых побед, сменяющих друг друга.
От такого будущего и самая суровая душа разразилась бы криком – и Дхолчей кричит, мчась сквозь безумие, источаемое Раной, в поиске разрушений, достаточно великих, чтобы даровать ему облегчение хотя бы на миг.
Конечно, в спине Ульгута вспыхивает боль, когда оковы рвутся, и он уплывает прочь. Повернувшись лицом в направлении своей цели, Ульгут ощущает чувство, сравнимое с холодным ветром, или сном, исчезающим, едва стоит проснуться, или резким солнечным светом, падающим на нежную кожу. Ульгута не заботят раздумья о том, что это может значить. При всей его мощи ум у него — звериный, а мышление ограничено. Ему нет дела до неудобств. Он думает о своем хозяине и спешит вперед.
Картина Третья: Слуга Червивых Звезд
У плоти Киаха Иссекателя – мутный цвет глаза, пораженного катарактой, и темные кости видны внутри поблескивающей массы. На нем шевелящаяся накидка из наполовину живой кожи. Его голова — куполообразный нарост, дрожащий на асимметричных плечах; когда ему нужно осмотреться, он вытягивает ее в длинный колыхающийся язык, покрытый глазами. У него есть крюк-топор — подарок госпожи, которая поглотила трупы его врагов, переварила их оружие, создала из него тяжелое, никогда не тупящееся лезвие и выделила его через свою холодную кожу. Он отблагодарил ее тем, что пробежал сквозь пещеры ее плоти, раня и убивая их обитателей, а она отблагодарила его тем, что выдавила из своих пор новых червей, на которых он снова поехал в космос, на бесконечную битву. Он облокачивается на перед паланкина и смотрит вперед, сжимая рукоять топора, а позади него идут готовые к бою воины.
Ощущения искажаются и размываются по мере того, как конфликт впереди растягивает и скручивает пространство. В один миг кажется, что Киах едет вверх от своей госпожи, а затем падает вниз. На секунду все расплывается, сбивая с толку, и другие Червивые Звезды кажутся невероятно далекими или ужасающе близкими. Есть места, где время отматывается назад и Киах снова становится хилым смертным созданием, где пространство повсюду кишит пульсирующими телами давно погибших червей. И сквозь все это доносятся насмешливые, хихикающие голоса возлюбленной госпожи Киаха и ее ненавистных сестер, могущественных Червивых Звезд. Они воют от удовольствия, кусая и жаля друг друга своими извивающимися конечностями, бесконечно пожирая и поглощая, и несметные легионы рабов, оседлавшие червей, ползают по ним, как клещи, и воюют меж собой.
Бесконечная битва Червивых Звезд, столь любимая Киахом, в этот раз снова изменилась. К ней присоединилось что-то новое, и Киах вглядывается вперед, пытаясь понять, что это.
Это гигантское нечто ярко-алого цвета, какого Киах, пожалуй, ни разу не видел среди серых и грязно-белых оттенков бледного царства Червивых Звезд. Этот шар – будто насмешка над формой его госпожи, хотя его жесткая красная шкура не обладает и каплей ее скользкой и соблазнительной мягкости. И он живой.
Госпожа Киаха обращается к этому существу голосом, подобным психической Волне, сминающей пространство, чьи более низкие тона проникают в материальный мир и сотрясают паланкин. Киах чувствует, как пузырится и вздувается червивыми опухолями плоть, когда голос омывает его, глумится, подначивает – игривая оболочка, скрывающая под собой чистую злобу. Мысль, кроющаяся в сердце ее насмешки, такова: «Что ты делаешь так далеко от дома, маленькая жертва? Ты думаешь найти здесь помощь? Тебе не следовало подходить так близко к нам, малыш».
Киах открывает еще один глаз на языкоподобной голове, чтобы увидеть-вкусить реакцию красной твари.
Уходит мгновение, чтобы понять, что бурлящая волна, вырывающаяся из нее и оттесняющая назад хлещущих червей, – это голос существа. Сердитый рев окатывает Киаха, обрушивает на него свое отчуждение, боль, разочарование, дикое упорство. Если бы Киах постарался разобрать в нем слова, то мог бы услышать: «Хозяин-ушел-должен-найти-его! Найду-хозяина-убью-что-заграждает-путь-к-хозяину! Убью-вас!».
Благополучно преодолев волну, червь приближается. Киах начинает различать впереди следы битвы: разорванные в клочья сегменты червей, сломанные паланкины и повозки, барахтающихся и умирающих рабов. А затем он охает, бледнеет и вцепляется в паланкин, чтоб не упасть, ибо на него падают удары чудовищных голосов Червивых Звезд.
Сестры воют от радости, издеваясь над слабостью твари, каждая насмешливая мысль сочится обещаниями навредить ему, пытается нащупать уязвимые места в его грубом уме и достойной презрения храбрости. Позади Киаха из огромного, заполняющего небо округлого тела его госпожи выползает все больше жирных червей, образуя извивающуюся стену мокрых, скрежещущих ртов-присосок.
Киах стоит под ударами чудовищного шума, и его настигает озарение. Вот что значит это знамение. Он прервал свой отдых и вернулся к битве ради этого. Он будет сражаться с рабами сестер его госпожи и победит. Захватит это красное существо и приведет его возлюбленной госпоже как пищу, сокровище, раба — что бы она ни пожелала сделать с пленником — и будет петь, истекать кровью и убивать, прославляя ее выбор. Иначе и быть не может.
Киах взвешивает топор, зажатый в усеянных шипами пальцах, поворачивает голову-язык и смотрит на своих спутников. Выглядят они разношерстно: некоторые двуногие, как он, некоторые с лапами насекомых или ртами личинок, у некоторых туловища растут из сочащихся выделениями тел слизней.
Они сжимают оружие руками, пучками щупалец или чавкающими присосками. Их кожа выбелена мучительно-жгучей желчью червей, чтобы походить на его собственную бледность. Они молча смотрят на него, ожидая. В груди Киаха открывается полость, чтобы он мог говорить с ними.
– Это для нас. Для меня. Наша щедрая госпожа, – тут они все вонзают в себя когти, ножи, острые края брони, – с радостью принимает своего жреца обратно на войну, в которой находит столь приятную усладу.
Еще одна волна голоса прокатывается над головой червя, смешанная с куда более тихими криками рабских умов, сносимых в сторону ее мощью.
«Хватит-боли! Хватит!» – с силой ядерного взрыва раздается вопль духа. – «Найти-хозяина! Драться-найти-хозяина! Хватит-боли! Иду-куда-ушел-хозяин!»
– Слышите это? – спрашивает Киах у своего войска, указывая топором на красную громаду впереди. – Его страх? Его боль?
По рядам воинов катится согласное бормотание. Страх и боль – вещи, которые они понимают.
– Это – трофей, который мы принесем нашей заботливой госпоже! – И вместе со всеми остальными он режет собственную плоть на последнем слове. – Мы принесем в жертву плоть этого незваного существа, чтобы сделать нашу госпожу, – он бьет ладонью по лезвию топора, – сильнее! Она будет расти и поглощать! Мы идем за победой, какой никто из вас никогда не видел!
Он потрясает топором и ревет, темно-красный туман сочится из его покрытой волдырями кожи, ярость повелителя переливается в его последователей, бряцающих оружием, бьющих по собственным телам и жаждущих битвы. Червь ведет своих братьев в яростное побоище, разворачивающееся вокруг алого существа, и ныряет в шум воплей, проклятий и вызовов, исторгаемых тысячей тысяч глоток и разумов, нарастающих и сливающихся в неистовый радостный хор.
Киах Иссекатель поднимает топор и готовится свершить то, ради чего был создан.
Червивые Звезды обленились, теша себя бесконечными играми с рабами. Их черви глубоко вгрызаются в Ульгута, но не могут остановить его. Он слегка замедляется, прорываясь сквозь орды врагов, а затем оказывается за пределами досягаемости Звезд, на свободе.
Отравили ли его Звезды? Был ли яд в их словах или червях? Сестры превращаются в три болезненного цвета искры позади, а Ульгут начинает чувствовать дрожь, проходящую чрез его плоть и дух. Космос впереди кажется пустым, и Ульгут воспринимает его с трудом. Но это его не остановит. Он собирает волю в кулак и ускоряется.
Картина Четвертая: Шелковый Шепот и крушение планов
Его записи о сравнительной способности человеческих мужчин и женщин переносить объятия гериколидского луноцвета: утрачены.
Его формулы для сыворотки, получаемой из смеси имперского полиморфина и лакримольского чая-сиропа: утрачены.
Его развлекательные инструменты, тщательно собранные путем выслеживания более чем дюжины эльдар-гомункулов на протяжении стольких же столетий: утрачены.
Его прекрасная кисть для письма и чернила к ней, сделанные из высушенных и истолченных сущностей шестых жертв в каждом тридцать шестом ритуале церемониального цикла, который начинался каждые двести шестнадцать лет: утрачены.
Погибли даже трофеи, любимые сувениры из тех простых воинских времен. Мощи святого Астартес, которые он украл из костницы ордена. Шест орочьего босса, на который он водрузил раскрашенный череп владельца. Нервная система, осторожно извлеченная из имперского инквизитора, плавающая, будто паутина, в консервирующем чане – ее смертные муки столь ярки, что она начала подергиваться и дрожать от воспоминаний, когда он доставил ее в это изменчивое место.
Кем же был инквизитор? Наверняка кем-то важным? Он смутно вспоминает погоню, поединок под горящим городом-ульем. Это было до или после дела с хрудами и той бесконечной осады на костяных рифах? Что ж, он и не собирается вспоминать это в деталях, разве нет? Не сейчас, когда скрипториум разбит, а библиотека пропала. Он старается сохранять хладнокровие относительно произошедшего события, но чем больше раздумывает над ним, тем сложнее становится не воспринимать его близко к сердцу. Он тихо ругается про себя, подманивая ближайший крутящийся объект – обломок зеленого камня в форме слезы. Тот медленно разворачивается, подплывает к нему и останавливается под ногами. Стоя на обломке и мчась по следу красного монстра, Архендрос, наконец, чувствует, что к нему вернулась, по крайней мере, часть его достоинства.
У Архендроса Шелкового Шепота, поборника Губительных Сил и возвышенного приверженца Князя Чувств, есть мечта и миссия. Всей работой его нечеловечески долгой жизни является обязательство отыскать каждое ощущение, которое может предложить ему галактика, внести в списки каждый восторг и агонию. Его книга станет руководством по точному и совершенному взлому дверей, запирающих чувства. Следуя его завету, поколения верующих смогут отточить свои аппетиты на самых отборных стимулах, стремясь вслед за Архендросом к последней награде, которой он жаждет: полностью сбросить с себя кожу притупленных и несовершенных чувств смертного, повиснуть мокрым и ободранным в великолепной буре, имя которой – Слаанеш.
Ради этой работы он выстроил уединенное пристанище здесь, в тихом пространстве вокруг Источника. Понадобилось приложить много усилий, чтобы покорить участок этой реальности, благосклонный к его повелителю, проделать много скучной и утомительной работы и использовать кое-какие с трудом заработанные услуги.
Но результат того стоил: силовая паутина, протянутая между множеством маленьких лун, астероидов, гигантских костей и старых опустевших машин. Здесь, в павильоне шелков, сияющих пронзающими рассудок сверхъестественными радугами, были изысканные полы из фарфора и спрессованной кости, залы и парапеты из металла, камня и более странных материалов, каких требовало благочестивое поклонение Архизвращению. Наиболее ценимые им послушники становились здесь писцами и библиотекарями, а безупречным демонам-цветам его Господина-Госпожи придавалась материальная форма, чтобы они охраняли свитки, исписанные кожи, огромные книги, чьи страницы блестели от вшитых в них волокон памяти.
Теперь он жаждал возмездия. Возмездия этой ревущей неуклюжей твари, которая вырвалась из сердца Источника, вся в шрамах и стонущая от неведомых диких побоищ, затмевающая звезды и расталкивающая луны, и врезалась прямо в новый дом Архендроса.
Именно в такие моменты Архендрос почти что завидует более простодушным собратьям, что поклоняются своей Княгине, самым простым и безжалостным образом перегружая свои нервные окончания. Он иногда нанимал таких созданий в Шелковую Кавалькаду, и хотя их глупые ужимки в бою или при отправлении культа вызывали у него усмешку, по крайней мере, их крайняя развязность позволяет легко переносить подобные разочарования.
С другой стороны, он знает, как любая из этих разложившихся душ отреагировала бы на это: заскулила бы в восторге и помчалась бы навстречу погибели – предельному и последнему из всех переживаний. Архендрос не одобряет такое отношение. Он полагает, что это ничего не дает Хозяину-Хозяйке, безрассудно расточая жизни тех, кто мог бы лучше всего прославлять Его-Ее. Он в приятных деталях описал этот аргумент в своем завете – но теперь, конечно, придется записывать его снова.
Архендрос уже настигает чудовище, выбирается из шлейфа обломков, который оно тащит за собой. Его шкура явно когда-то была домом для меньших существ: среди тянущихся по коже и словно кровоточащих трещин Архендрос может разглядеть нечто похожее на здания, покрывающие ее коркой и перемежающиеся непонятными штуковинами, которые выглядят как крепления для цепей огромной длины. Кто-то владел этим существом.
У Архендроса рождается идея, которая может оказаться лучше, чем месть. Он размышляет над ней, наблюдая, как чудовище прорывается через рой кровавых сгустков с остров величиной, шипящих и покрытых струпьями, и облаченные в бронзу демоны, сидящие на них, яростно ревут, когда столкновения уничтожают их.
Возможно, это существо — не только причина его проблемы, но и решение к ней? Что за скакун бы из него получился! Наверняка на его поверхности есть какое-то сооружение, которое можно сделать своим новым дворцом, и...
Нет. Подлетев ближе, он уже может ощутить сотрясения от попыток зверя вытолкнуть себя в тусклое реальное пространство. Без чистого безумия из глубин Источника, которое поддерживает его существование, бремя внешней реальности сокрушит его. Он уверен, что трещины на шкуре уже расширяются, и видит, как угасают его цвет и жизненная сила. Что толку от скакуна, чье первое путешествие станет ему смертным приговором?
Надо уходить. Пора вернуться во внешнюю галактику, пора заново собрать Шелковую Кавалькаду и начать труды с нуля. Возможно, Слаанеш проверяет его не обилием наслаждений, но их отсутствием. Или, возможно, оно просто смеется над ним. Кто знает?
Угасающее красное существо, накренившись, пролетает мимо пустотелого мира, связанного из разрушенных боевых кораблей при помощи веревок из кожи их экипажей. Архендрос отворачивает лицо, когда существо внутри сферы насмешливо окликает его старым именем, которое, как он думал, сгинуло и забылось. Значит, теперь ему надо спрятаться среди шлейфа обломков от роя существ, состоящих из радужных крыльев, соединенных влажными кишками, которые кричат и проклинают красное чудовище. Гордость — это, конечно, хорошо, но лучше не привлекать к себе внимания, пока он не доберется до какого-нибудь другого своего жилища и откроет его арсенал.
Что ж, пора. Вздохнув про себя, слишком занятый обдумыванием планов, чтобы гнаться за местью, Архендрос Шелковый Шепот поворачивает назад, оставляя Ульгута реветь и слепо мчаться по своему пути.
Ощущение можно сравнить с чувствами пловца, угодившего в бурное течение – он беспомощен, его куда-то несет и кувыркает. Ульгут попал на край великой внешней бури и продолжает продираться вперед, сносимый течением. Тело онемело, чувства помутнели и омрачились. Он не понимает, что находится слишком далеко от тех пределов, где потоки варпа достаточно насыщенны, чтобы поддерживать в нем жизнь. Все, что знает Ульгут — если потребуется, он будет прочесывать космос в поисках хозяина вечно.
Картина Пятая: Каменное небо
У долговязого мужчины с бугрящимися от мышц руками нет имени. Нет его и у землистокожей женщины, которой недостает зубов. Как и у бледной девочки, кисть руки которой из-за какого-то давнего несчастного случая превратилась в морщинистый огрызок. Как у всех бессловесных, голых, жалких существ, ползущих по склону холма, через пыль и мусор, под нависающим над ними небом из красно-серого камня.
Они лежат вокруг рва, который выдалбливали в земле по плану, нарисованному последним Хозяином ожогами и шрамами на собственном брюхе. Рабы трудились вплоть до первого толчка. Теперь они лежат, скуля и цепляясь за землю, слыша, как земля где-то вдали сотрясается от нового удара. Через миг земля под ними вспучивается — это проходит ударная Волна, подбрасывая их в воздух, в пыль и ветер, а затем они падают и снова лежат, задыхаясь, пытаясь вцепиться покрепче или найти более устойчивое положение. Все это время люди молчат. Рабы пережили много бед, и, пока неясно, что это за чудовищные сотрясения, они понимают, что лучше им не шуметь. Но потом высокий мужчина начинает кричать.
От толчка Волны он угодил ногами в ров. Символ Хозяина еще не закончен, поэтому человек остался жив, однако теперь его охватило чувство, будто кости стоп начали извиваться. Он испускает вопль. Надрывно вдыхает и кричит снова. Рабы вокруг стараются отползти подальше, подчиняясь рефлексу, выработанному ими из-за Хозяев, которые наказывают всех без разбора.
Но однорукая девочка, со стоном переведя дыхание, осознает: кто-то (она не может думать о нем, как о «высоком» или «широкоплечем» или как-то вроде того — имена рабов были стерты так тщательно, что их разумы отбрасывают прочь все, что могло бы сойти за имя) кричит, и ни один Хозяин не появился. Она отваживается поднять голову и поэтому становится первой, кто видит — когда налетает ветер и частично развеивает пыль — что небо обратилось в камень.
Знакомое ей пляшущее небо варпа теперь закрыто невероятно высоким потолком из тверди — ржавым, бледно-красным, неровным и грубом, как старое лицо. Перевернутые горы нависают над ними, как зубья хозяйского меча, вверх тянутся ущелья, равнины расцвечены сумеречными пятнами, похожими на кровоподтеки.
Это каменное небо выгнуто. Его центр — выпуклый, как беременное брюхо одной из тех безглазых, безъязыких женщин на фермах Хозяев. Не плоский потолок, а полусфера.
– Больное, – девочка тянется к этому новому небу изуродованной рукой, как будто пытаясь показать их сходство. – Больное! Смотрите!
Блеклая красная поверхность нового неба пронизана гниющими серыми расселинами, напоминающими покрытые струпьями раны, и оно сбрасывает частицы себя, фрагменты, которые отваливаются от этой умирающей структуры, слишком слабой, чтобы удержать их. Рабы видят отслоившиеся куски нового неба, которые появляются на такой высоте, что их едва можно разглядеть, и становятся все больше, быстрее, несутся вниз и неумолимо растут.
Они снова кричат, когда огромный кусок плоти Ульгута врезается в равнину, поднимая занавес пыли и сотрясая землю.
А обвислое, крошащееся каменное небо опускается.
Ущелья и кратеры разрастаются, вся эта масса становится ближе и как-то ощутимее. Рабы уже не видят ее пределов. А затем происходит нечто не столь зрелищное, но более пугающее — глубокий сейсмический стон где-то под ногами, долгая скрежещущая вибрация и жуткое чувство, что земля поднимается и начинает опрокидываться – не от столкновения, а под воздействием какой-то ужасной подземной силы. Девочку с иссохшей рукой снова сбивает с ног, она падает на что-то твердое и тянется, чтобы потрогать то, обо что ударилась.
Оно странное на ощупь — твердое, ни зернышка, ни волокна, которое пристало бы к пальцам, изогнутое не так, как рука, плечо или челюсть. Девочка никогда раньше не прикасалась к металлу, и он кажется ей столь чужеродным, что она, даже несмотря на рушащийся вокруг ландшафт, приоткрывает глаза, чтобы взглянуть.
Это Хозяин. Твердое под рукой — это его гладкая, как спинка жука, броня, соединяющаяся с круглым шлемом так, что меж ними видны только мумифицированные, наглухо сшитые проволокой челюсти. Она взвизгивает в ужасе, а хозяин выкапывается наружу, шипя сквозь зубы. Его плеть и пистолет куда-то делись.
– Работать! – рычит он на нее. – Работать!
Это единственное слово, ради которого он может ослабить странной формы сетку, скрепляющую его пасть, и обрести речь. Оно заменяет собой любое другое слово, которое ему хотелось бы сказать. Хозяин поднимает когтистую, покрытую пятнами руку, увидев других рабов, появляющихся из пыльного марева.
Долговязый мужчина нашел палку-копалку и опирается на нее; позади идет коренастая женщина, поддерживая мальчика с землистым лицом, который в свою очередь ведет еще одного раба.
– Работать! Р-р-р-раббботтать! – говорит им существо, а затем тяжелый конец палки-копалки отшвыривает его руку в сторону, ломая кости. А через миг, где-то далеко за горизонтом, опускающееся каменное небо касается корчащейся земли безымянного мира, и начинаются землетрясения.
Палка снова наносит удар, звякая по шлему Хозяина. Со стороны горизонта доносится грохот, и высокий человек, стеная и плача, вонзает полузаточенный конец своего оружия между шлемом и выгнутой пластиной, защищающей спину, пригвождая Хозяина к земле, а женщина бросается на него и неуклюже вцепляется ногтями в шею.
Затем тряска выбивает землю у них из-под ног, швыряет их в воздух, звук раздираемой коры планеты стирает все прочие звуки. На миг рабы виснут на спине Хозяина, затем он теряет равновесие и катится по земле, дергаясь и хрипя «ррбтт... ррбт...» Однорукая девочка ликующе кричит, отдирая кожаные подушечки, пришитые к его ступням. Серолицый мальчик завладел одной рукой и рвет зубами оголенную плоть.
Последняя мысль девочки полна сожаления – если бы только они могли это сделать с Хозяином, который забрал их имена, вместо этого Хозяина — слуги Хозяина, то, возможно, их имена бы освободились. Было бы хорошо окончить свои дни с именем, хотя бы с таким, которое она сама себе придумала. Но эта мысль длится лишь миг, потому что затем земля, наконец, обрушивается под ними — сила столкновения с Ульгутом раздирает безымянный мир на части, и земля и воздух исчезают во всепоглощающем грохоте и боли.
Ульгут едва замечает удар, который пропахал ему бок и от которого растрескалась его твердеющая кожа. Плоть обращается в камень, жаркое пламя духа в его ядре конденсируется в медлительную магму, нервы и вены становятся холодными минералами, дыхание и пот замерзают, и сама жизнь держится в нем с трудом, ибо ее вместилище костенеет. Как раненое животное, Ульгут сжимается, жалкий и напуганный, неспособный понять, почему умирает.
Картина Шестая: Капитан, провидец и восстание духа
– Лжешь, варпова отрыжка, – говорит Ашья Драэль, сжимая болтпистолет в руке; несмотря ни на что, она ухмыляется. После шести часов кровавых схваток контрпереворот против ее корабля подошел к завершающей фазе. Не на борту корабля. Против. Она бы удивилась этому, если бы то, через что она прошла, будучи капитаном «Слепого Предателя», не лишило ее способности чему-либо удивляться.
– Я не лгу, бывший-капитан-Драэль, – отвечает жужжащий, будто пила по нервам, голос духа, доносящийся из каждой вокс-решетки на мостике. – Факт твоего поражения установлен. Признай его.
Время от времени, когда смесь поглощенных душ в системах корабля начинает как-то странно бурлить, Драэль слышит в ней интонации одного из своих офицеров.
Она стоит боком к огромным, выступающим наружу бронехрустальным окнам на мостике «Слепого Предателя», спина к спине с облаченным в сапфировую броню великаном – Торвом Холодное Сердце. У того нет оружия, но Драэль видит уголком глаза розово-бело-голубое пламя, которое лижет его латные перчатки. Плащ Торва, состоящий из тонких серебряных чешуек, мягко звенит.
Большая часть сервиторов на мостике взорвалась в хаосе, устроенном духом в начале восстания, и обратилась в брызги и лужи вокруг своих креплений. Горстка уцелевших торчит на местах, неуклюже раскинув конечности, и их легко перестрелять одного за другим, пока они пытаются высвободиться, чтобы задушить ее. И даже это было еще не все: внутренности одного трупа выползли наружу и сплелись в змею, которая бросалась на них, пока Драэль не истратила на нее последний заряд ручного огнемета, а затем что-то пульсирующее, рычащее и почти невидимое начало распускаться прямо в воздухе, однако Торв одним жестом развеял его. Но Драэль все с большей уверенностью чувствовала, что все закончилось.
Она победила.
– Нет, – говорит она духу, – ты лжешь. Обрати внимание. Мы на мостике. Здесь до нас не доберутся твои дружки, у которых кишка тонка меня сместить. Свести с ума рядовой состав варп-воплями по воксу было довольно ловким ходом – разве что мы это тоже пережили, а теперь умы твоих берсерков тоже сломлены. Последние, которых мы встретили, были заняты тем, что рвали себе лица ногтями. Ты только что видел, как Холодное Сердце избавился от твоего мелкого охранного призрака. У тебя больше нет оружия.
– Бывший-капитан-Драэль, – отвечает дух, будто рой пчел, который обрел голос. – Драэль, капи... Ашья! Ашья, пожалуйста, помо...
На мгновение слышатся два человеческих голоса: лейтенант Ордрим, отвечавший за палубы для хранения боеприпасов, и кантор Делларик, жрец культа. Делларик погиб во время переворота, пытаясь утихомирить дерзкий дух ритуальными песнопениями, но Ордрим, по последним сведениям Драэль, все еще был жив и находился где-то на нижних палубах. Видимо, бунтовщики добрались и до него.
– Ты внутри меня, бывший-капитан-Ашья...
«Ашья, Ашья, пожалуйста, ради...» – слышится приглушенное его словами эхо воплей.
– ...Драэль. Вы в моих внутренностях, глупая женщина, ослепленный гордыней провидец. Продолжайте сражаться, как можете, если хотите умереть, хрипя и задыхаясь, слыша мой смех у себя в голове.
Болт, попавший в ближайшую вокс-решетку, на миг заглушает духа.
– Ты, возможно, самый необычный из тех, кто думал, что сможет занять мое место, – говорит ему Драэль, – но не первый. И не последний. Крайне. Глупо. Ты еще не убил меня, значит, и не можешь это сделать. Я еще не сдалась, значит, и не сдамся. Задирай лапки кверху и делай, что велено.
– О, поразмысли над этим, бывший-капитан, – шипит дух. – Как ты думаешь, почему мои братья наделили меня такой силой, утаив это от тебя?
Драэль хмурится – ее подозрения подтвердились. Падшие техножрецы с Ксаны II обхитрили ее, когда делали так называемое переоборудование, для которого она их наняла. Надо будет расплатиться по счетам.
– Они знают, что я есть, бывший-капитан. Полноправный хозяин прекрасного военного корабля. Когда я приведу его к ним, что за почести они мне окажут! Все, что мне нужно, это сохранять курс! Впереди — мои приверженцы из Кузни Восьми Стрел! – голос теперь радостно каркает. – Мы почти прибыли на место встречи! У тебя не осталось людей, чтобы противостоять им! На колени, Драэль! Моли, чтоб тебя убили как врага, а не как животное!
Уверенность Драэль колеблется, но лишь на миг. Она не верит, что у этой твари хватает ума на блеф, но видит отсюда командную голосферу, а та не показывает никаких кораблей впереди. Она смотрит в огромные окна. Должно быть, они спрятались в засаде позади той бродячей планеты прямо по курсу.
– Торв, можешь ослабить его хватку? Если ты дашь мне развернуть корабль на четверть и накренить градусов на пятнадцать, то мы сможем выйти на верхний полюс этой штуки и, может, бортовым залпом… – Драэль прерывается и изрыгает проклятье. Она думает так, будто до сих пор может контролировать артиллерийские палубы. И если Холодное Сердце не сможет ослабить власть духа над управлением...
Она пристально глядит на голосферу. Нет. Это не может... но она опять думает по-старому. Странствуя по Глазу Ужаса – даже по этим пограничным просторам – нужно отбросить удобные и привычные представления о том, что возможно, а что нет. Каким образом этот несчастный дух умудряется лететь на свою встречу со скоростью выше максимальной?
– Торв, быстрее! Расстояние уменьшается! Надо повернуть! – она смотрит на Холодное Сердце, как он стоит, не шевелясь, только покачивается с высоко поднятыми руками, и яркие, окутанные туманом огни в его руках вызывают светящиеся разряды, что бьют и сверкают из панелей управления. Она переводит взгляд на сферу.
– О черт-черт-черт побери, Торв! Верни контроль над управлением, или нам конец!
– Конец, – хрипит дух. – Конец... разбить порядок, разбить! Рассеяться и всем вперед! Что?!
– Он говорит сам с собой, Торв, он разбивается на части! Убей его! Говорю тебе, еще пара минут, и все пойдет прахом!
– Это был не дух, – доносится ответ Торва, и впервые за все время она слышит напряжение в его голосе. – Это варп-зов. Откуда-то неподалеку.
Драэль смотрит мимо него, в окно. Планета уже занимает половину обозримого пространства. Скоро она перестанет видеть космос вокруг нее.
Тогда из плоского диска она превратится в изогнутый горизонт, а затем в стремительно приближающуюся землю...
– Двигай корабль! – ревет она. – Если не хочешь, чтоб…
Но тут ее заглушает другой голос, вырывающийся из переборок и палуб, словно весь корабль превратился в адский резонатор для рычащей и рыдающей ноты, от которой Драэль дрожит и падает на колени. У нее текут слезы, дергаются мышцы, она задыхается, чувствуя, что ее сейчас стошнит.
Потом голос — человеческий, но не мысленный, а механический — трещит на главном диапазоне вокса.
– Не могу оторваться, пожалуйста, кто-нибудь... – и затем его поглощает визг статики.
Драэль в недоумении поднимает взгляд и видит, как на несущейся навстречу планете вспыхивает и тут же гаснет белая искра, вокруг разлетается и рассеивается призрачное кольцо ударной волны. Она была неправа. Там были ждущие в засаде корабли, и их расшвыривала в стороны планета, летящая к ним, словно пуля, быстрее, чем они маневрировали.
– Дух! Хочешь насладиться, убив меня лично? Тогда немедленно поворачивай! – еще одна плазменная вспышка озарила лик планеты. – Ты слышишь? Лево руля на пятнадцать, нос вверх на двадцать! Живо! Живо!
И дух повинуется. В окнах видно, как мимо скользят звезды. Нижняя часть космического бродяги теряется из виду, и Драэль может различить тени, порожденные еще одним взрывом. Она кричит, чтоб дух свернул еще на десять градусов и рванул вперед на полной, полной скорости, выжимал из двигателя все, пока корабль не взвоет!
И «Слепой Предатель» действительно воет — не только дух машины, но и выжившие члены команды. чьи разумы уже сломлены, а теперь ломаются и тела, сметенные скоростью разворота, которую больше не сдерживают ослабевшие гасители инерции. Вой наполняет вокс, когда последние два корабля из союзной духу эскадры не выдерживают скорости бродячего мира и разрываются на куски. Воет само тело «Слепого Предателя», выворачивая само себя без действующей команды на борту, которая могла бы отрегулировать работу рулевых систем или восстановить гравитационные поля, смягчающие напряжение, испытываемое корпусом.
Драэль так и не увидела ни проносящегося мимо искаженного лица планеты, ни огня, окружившего нос ее корабля, когда тот скользнул по поверхности редеющей атмосферы. Кажется, проходит долгое время, прежде чем сокрушительная сила ослабевает – и она падает на четвереньки.
Холодное Сердце повалился на пустой пьедестал сервитора, утратив всю прежнюю царственность.
– Торв? – выдавливает Драэль, с отвращением слыша дрожь в своем голосе. – Добей его… пока он еще… слаб.
Ей пришла на ум мысль, с которой она никогда не согласится — что она обязана жизнью коварству жрецов Ксаны. Если бы дух не был усилен теми, кто нашептал ему мысли о бунте, он, возможно, не смог бы побороть притяжение бродячей планеты и вовремя развернуть корабль. Она пытается посмеяться над иронией произошедшего, но вместо этого сгибается пополам в приступе кашля.
– Торв?
– Спокойно, Ашья. Он не борется.
– Что?
– Если дух будет драться, я готов к этому. Но он не противостоит мне. Его союзники исчезли, эта штука убила их. Никто ему больше не поможет. Мы и вправду победили.
Едва замечая протесты своего напряженного тела, она встает на ноги и делает глубокий вдох. Дух нарушает молчание:
– С вашего позволения, мадам капитан, давайте обсудим условия.
По инерции они все больше удаляются от покрытой выбоинами бродячей планеты, и Ашья Драэль кладет руки на бедра, отклоняется назад и разражается смехом.
Он не чувствует взрывов плазмы, поражающей не живую кожу, но хладный камень. Ульгут — кит, выброшенный на берег реальности, и жизнь его вытекает в стерильный вакуум космоса, для которого он не был предназначен. Возвращаться слишком поздно, повреждения слишком сильны. С последним стоном и мыслью о хозяине Ульгут умирает.
Картина Седьмая: Видение Эрехоя
Каждые шестнадцать секунд окулярные антенны тихо звенят, направляя поток изображений в информационные ядра. Каждые тысячу двадцать восемь секунд ауспик-часовой добавляет приглушенную, как у похоронного колокола, ноту. Каждые двенадцать секунд системы авгуров на боковых мачтах издают звук гонга, показывая, что они все еще сфокусированы и ведут запись. Утонченная нота гамелана каждые семьсот шестьдесят восемь секунд доносится от пассивных сенсоров, сообщая, что они не видят ничего отличного от установленных параметров оповещения. И раз в четыре тысячи сто двенадцать секунд раздается подобный звуку арфы каскад нот, говорящий, что основные системы корабля по-прежнему действуют в гармонии, соответственно предписанию, установленному Богом-Машиной.
Это звуки, по которым Мареос Эрехой, капитан исследовательского корабля «Несравненный интеллект Дзюсина» измеряет свои дни.
Лишенное конечностей тело Эрехоя парит по магнитно-левитационной дорожке к молитвенному приделу на мостике «Интеллекта» сквозь терпко пахнущий дым благовоний. Он по-царски высоко держит голову благодаря позвоночному каркасу из полированного титана, отражающему огни священных светильников, что украшают алтари мостика. Каждый светильник – средство вывода данных, каждый алтарь – одновременно церемониальное святилище и терминал для доступа к гудящим инфопроцессорам нижних палуб. Функциональность и святость.
Эрехоя бы оскорбила идея того, что они разделимы.
Эрехой завершил молитвы, которые он произносит каждые четыре тысячи секунд, и теперь совершает литургию для своей машинной паствы. Глаза его закрыты, будто он дал им отдохнуть на мгновение, хотя на самом деле не открывал их почти восемьдесят лет. Губы изогнуты в постоянной легкой усмешке, и дымка тонких белых волос окутывает красновато-коричневую кожу черепа. По стандартам Механикус такая пренебрежительная органическая неопрятность достойна порицания, но Эрехой уже много десятков лет безупречно выполняет свои обязанности и втайне от всех, кроме себя и Бога-Машины, полагает, что от волос на голове нет какого-либо вреда.
В молодости Эрехой был разведчиком, служил в авангарде, выполняя военные задания Культа – острый, как клинок, ревностный и непреклонный. Теперь, на мирном склоне лет, он с благодарностью принял новую обязанность. Астрокартографирование реального космоса – долгое и спокойное путешествие навстречу дрейфующей базе Механикус, где находится навигатор, который вернет его домой. Безмятежное бдение отшельника среди великолепия звезд. Юный Эрехой преисполнился бы отвращения к идее наслаждения красотой, однако это еще одна вещь, в отношении которой Эрехой-старец втайне верит, что от нее нет никакого вреда.
Когда он созерцает нежно светящееся облако пыли, в котором зарождаются звезды-младенцы, или алмазную рану новой, пронзающую глубокую тьму, он почти в состоянии забыть то явление, границы которого он измеряет – гнилостное нечто, наполняющее звездное пространство по левому борту изменчивым, бесцветным, каким-то скользким светом. Обязанность, которую Эрехой не любит больше всего — чистка ауспиков, которые должны смотреть в направлении этого нечто, но он знает, что лучше этой обязанностью не пренебрегать. Будучи жрецом, он по горькому опыту знал, что будет, если позволить чьему-либо взгляду, человеческому или машинному, слишком долго задерживаться на Глазе Ужаса.
Но, к счастью, сейчас этим заниматься не надо. Нет, он направится в бельведер, завершая свой крестный ход, соединит свое сознание с куполом обсерватории и будет часами упиваться зрелищем небес. Таков был порядок, заведенный на протяжении десятков лет, порядок, приносящий спокойное удовлетворение… пока не зазвенел один из часовых левого борта.
Эрехой дергается, отвлеченный звуком – что-то встало между ним и звездами, и это его раздражает. Но сигнал подали левосторонние сенсоры – те, чья работа наиболее опасна. Эрехой бранит себя за нежелание действовать. Машины нуждаются в нем.
Он плавно меняет направление хода, его трансляционные устройства обмениваются информацией с системами «Интеллекта». Эрехой изучает первичные сообщения, отбрасывает их, требует подтверждения, просматривает снова и снова. Но это не призрак, не выдумка его старой седой головы, и не — стыдно подумать! – техническая ошибка. Что-то появляется из Глаза.
Лицо Эрехоя неподвижно, но разум стремительно работает. В диалоговом режиме активируются давно не использовавшиеся решения нештатных ситуаций, готовые загрузиться в разум Эрехоя, и аугметические захваты пересаживают его с дорожки в приспособленную для тела ячейку на высоком алтаре. С тихим «пафф» курильницы в шести углах алтаря воспламеняются, и вентиляторы разгоняют в воздухе острый запах. Из пола поднимаются и разворачиваются две металлические горгульи и начинают читать катехизис стойкости на стрекочущем машинном языке. Чувство, что божество теперь ближе к нему, заново наполняет Эрехоя уверенностью, и он поворачивает глаза «Интеллекта» к этому объекту, который каким-то образом появился из адского сияния по левому борту. Это – планета.
Поначалу Эрехой не верит своим глазам — может, это и богохульно, сомневаться в своих машинах, но он знает, что даже машины не защищены ото лжи этой лихорадочно-бешеной бури. Но сомнений нет. Планета.
И, святые пески Марса, насколько же она быстра? Она уже вышла из Глаза в реальное пространство. Эрехой строчит приказами, настраивает чувства «Интеллекта», выводит из спячки мощные аналитические системы и вводит в свой мозг. Эта планета скоро пропадет из виду, и он должен составить ее безупречное описание.
Поверхность выглядит грубой, изрытой и покрытой странными шрамами. Она окружена жгучим сиянием, но когда Эрехой заставляет когитатор сделать поправку на свет, сочащийся из Глаза, планета оказывается мертвенно-серого цвета. Радио- и термоскопы молчат: этот мир не источает ни энергии, ни трансляций, ни радиации, ни даже жара расплавленного ядра.
Из инфоковчегов начинают поступать увеличенные пикты, и Эрехой смотрит на них как завороженный. По ближнему полушарию (чьи трещины и контуры формируют узор, о котором Эрехой старается не думать как о лице) разбросаны большие кратеры с гладким дном и размытыми краями. За девяносто семь секунд инфоткачи на нижних палубах выясняют, что формы кратеров совпадают с записями о плазменных взрывах такого масштаба, с каким мог бы взорваться раскаленный реактор звездолета. Вниз по одному боку тянется чудовищная борозда, видимо, от прошедшего по касательной столкновения планет, которое наверняка повлекло за собой смерть всего живого на обоих мирах. Позади тянется хвост обломков, отколовшихся от распадающейся бродячей планеты, вперемешку со странным на вид космическим мусором, притянутым ее гравитацией. Есть риск, что отбросы из Глаза слишком сильно отпечатаются на сенсорах корабля, но Эрехой молится Богу-Машине, чтобы благополучно справиться с ними. Он не осознает, что при этом дрожит.
Тени очерчивают на поверхности тектонические плиты, которые вспучиваются, будто окаменелые мышцы. Высвечиваются странные точечные кратеры, над которыми Эрехой недоумевает, размышляя, почему они кажутся знакомыми. Позже он осознает, что они напоминают не кратеры на мире, лишенном воздуха, но укусы паразитов на живой коже. Они перемежаются блестящим металлом – Эрехой ахнул бы, если бы дышал через рот или нос. Вместо этого рефлекторно увеличивается скорость работы аэраторов, встроенных в его кресло, которые подают кислород непосредственно в кровь.
Он лихорадочно настраивает телескопы, пытаясь добиться наибольшего увеличения, и металлический каркас, скрепляющий его тело, скрипит и потрескивает: еще одним бессознательным, рефлекторным движением Эрехой пытается нагнуться вперед, концентрируя внимание. Блестят не башни или машины, не следы крушений или каких-то невообразимых утраченных технологий, на которые он надеялся, а просто металлические полукольца— гигантские арки, разбросанные по истерзанному космосом ландшафту либо без всякого порядка, либо в порядке, слишком сложном для того, чтобы Эрехой мог его осмыслить. Некоторые из них деформированы или частично вырваны смещениями поверхности, и когда Эрехой видит одну, полностью вывороченную наружу, то понимает, что эти арки — торчащие из земли половины четырехугольных петель, похожих на гигантские звенья цепи, хотя один лишь Омниссия знает, где может быть добыта и откована такая масса металла.
Однако мир слишком быстро проходит под «Интеллектом» и устремляется дальше. Эрехой смотрит, как из сферы он превращается в полумесяц, потом во все уменьшающуюся тень на фоне космоса. Инфоткачи уже заняты делом, один из навигационных логистеров вычисляет направление к ближайшему посту перехвата линейного флота Обскура, куда он направит предупреждение, а астропат передаст его дальше.
Эрехой еще долго сидит, размышляя, вместо того, чтобы лично просмотреть отчет. Поначалу он говорит себе, что это просто утомление из-за нарушения привычного режима, но, даже переварив каплю стимулятора, не может избавиться от мрачного чувства. Эрехой думает, не отключиться ли ему от систем «Интеллекта», чтобы позволить кораблю самостоятельно закодировать результаты изучения трупа, пока он… Стоп, нет. Он это сделал. Эрехой прерывается, отслеживает и проверяет логи своих мыслей – и видит это. Он только что использовал термин «труп». Он отматывает назад заснятое телескопом и снова смотрит, как мир исчезает в межзвездном пространстве. Да, это безжизненный мир, но «труп»? Что заставило его подумать о планете, как о живом существе?
Эрехой безмолвно возвращает «Несравненный интеллект Дзюсина» на прежний курс. Легкая улыбка исчезла с его губ, поддерживающее кресло щелкает и беспокойно вертится, чувствуя смятение капитана. Пройдет немало времени, прежде чем безмятежность вернется к нему.
Бесконечная темнота, бесконечный холод, звезды, что смотрят, не мигая, из огромной дали. Навсегда потерянные и умолкшие, останки Ульгута исчезают в ледяной пустоте.
Uhlguth - Ульгут
Dholtchei – Дхолчей
Shockwave (в тексте везде с большой буквы) - Волна, ударная Волна
Herikolid Moonflower — гериколидский луноцвет
Cheagh the Excisor – Киах Иссекатель. Скорее всего, от «goll cheagh» (по-гэльски — впасть в ярость)
Worm Stars – Червивые Звезды
Chanter – кантор
gamelan – гамелан
Peerless Intellect of Jeushin – «Несравненный интеллект Дзюсина»
data-engines – инфопроцессоры
data-looms – инфоткачи (loom – ткацкий станок)